Поэтам XX века
Он был поэт народный, – для народа
писал стихи и властью признан был.
И в строчках тех – прекрасная природа,
работы пот, дыхание борьбы,
бессонный труд, заводы и колхозы,
года побед, волнений и труда.
Звучала в них, бесспорно, сила прозы,
а грусть любви была ему чужда.
Потом – свобода и распад державы,
инфляция, последствия ее...
А он хотел пьянящей, чистой славы
и вот ушел - туда, в небытие.
Как много там поэтов одиноких,
забытых незаслуженно подчас.
Уйдем и мы бродить в краях далеких.
Не забывайте, люди, вы о нас...
Он был поэт народный, – для народа
писал стихи и властью признан был.
И в строчках тех – прекрасная природа,
работы пот, дыхание борьбы,
бессонный труд, заводы и колхозы,
года побед, волнений и труда.
Звучала в них, бесспорно, сила прозы,
а грусть любви была ему чужда.
Потом – свобода и распад державы,
инфляция, последствия ее...
А он хотел пьянящей, чистой славы
и вот ушел - туда, в небытие.
Как много там поэтов одиноких,
забытых незаслуженно подчас.
Уйдем и мы бродить в краях далеких.
Не забывайте, люди, вы о нас...
Вадим Шефнер
А где-то там, куда мне не вернуться,
где на Неве белеют корабли,
по-прежнему ревнуют и смеются,
разлук не видя, что их ждут вдали.
И я там жил у мелкого залива, —
фонарь, аптека, сумрачный гранит...
Сменялись вновь приливы и отливы,
а сфинкс на море до сих пор глядит.
У возраста туда не отпроситься, —
я время опрокинуть не могу.
Но Пенелопа в выгоревшем ситце
всё ждёт меня на давнем берегу.
Сидит, руками охватив колено,
лицом к неугасающей заре,
попав в узор томительного плена,
как мотылёк, увязший в янтаре.
А где-то там, куда мне не вернуться,
где на Неве белеют корабли,
по-прежнему ревнуют и смеются,
разлук не видя, что их ждут вдали.
И я там жил у мелкого залива, —
фонарь, аптека, сумрачный гранит...
Сменялись вновь приливы и отливы,
а сфинкс на море до сих пор глядит.
У возраста туда не отпроситься, —
я время опрокинуть не могу.
Но Пенелопа в выгоревшем ситце
всё ждёт меня на давнем берегу.
Сидит, руками охватив колено,
лицом к неугасающей заре,
попав в узор томительного плена,
как мотылёк, увязший в янтаре.
где на Неве белеют корабли,
по-прежнему ревнуют и смеются,
разлук не видя, что их ждут вдали.
И я там жил у мелкого залива, —
фонарь, аптека, сумрачный гранит...
Сменялись вновь приливы и отливы,
а сфинкс на море до сих пор глядит.
У возраста туда не отпроситься, —
я время опрокинуть не могу.
Но Пенелопа в выгоревшем ситце
всё ждёт меня на давнем берегу.
Сидит, руками охватив колено,
лицом к неугасающей заре,
попав в узор томительного плена,
как мотылёк, увязший в янтаре.
Олег Чухонцев
«Я оторвался от своих корней,
и память детства шепчет как чужая,
а родина моя всё зеленей,
издалека томит, не отпуская.
Как хорошо на людях одному!
Скрипи, трамвай, греми в кольце железном.
Не одобряя эту кутерьму,
пою о мире тихом и безвестном.
Как хочется под липой постоять,
лежать на сене тёплом и душистом,
открыть калитку и увидеть мать, —
совсем седую, в платье неказистом».
Ему бы петь про шелест диких трав,
про буйный ливень, грозовой и тёмный;
о времени, что прячет властный нрав,
и жить тихонько, как отшельник скромный.
Он мог смотреть с бесстрастной высоты
на чуждый мир и на гримасы строя.
Но что, мой друг, о силе знаешь ты
петли тугой советского застоя?
«Я оторвался от своих корней,
и память детства шепчет как чужая,
а родина моя всё зеленей,
издалека томит, не отпуская.
Как хорошо на людях одному!
Скрипи, трамвай, греми в кольце железном.
Не одобряя эту кутерьму,
пою о мире тихом и безвестном.
Как хочется под липой постоять,
лежать на сене тёплом и душистом,
открыть калитку и увидеть мать, —
совсем седую, в платье неказистом».
Ему бы петь про шелест диких трав,
про буйный ливень, грозовой и тёмный;
о времени, что прячет властный нрав,
и жить тихонько, как отшельник скромный.
Он мог смотреть с бесстрастной высоты
на чуждый мир и на гримасы строя.
Но что, мой друг, о силе знаешь ты
петли тугой советского застоя?
и память детства шепчет как чужая,
а родина моя всё зеленей,
издалека томит, не отпуская.
Как хорошо на людях одному!
Скрипи, трамвай, греми в кольце железном.
Не одобряя эту кутерьму,
пою о мире тихом и безвестном.
Как хочется под липой постоять,
лежать на сене тёплом и душистом,
открыть калитку и увидеть мать, —
совсем седую, в платье неказистом».
Ему бы петь про шелест диких трав,
про буйный ливень, грозовой и тёмный;
о времени, что прячет властный нрав,
и жить тихонько, как отшельник скромный.
Он мог смотреть с бесстрастной высоты
на чуждый мир и на гримасы строя.
Но что, мой друг, о силе знаешь ты
петли тугой советского застоя?
Игорь Царёв
Искал он истоки в делах повседневных
мелодий тончайших, восторгов душевных,
а мог бы лежать на афганской меже,
убитый и всеми забытый уже.
Мечтой уносился к местам позабытым,
где волны белеют под ветром сердитым,
пером пробиваясь в словесной руде,
а дни проносились в своей череде.
Но кто же мог знать, как мучительно скоро,
оставив вдали наш грохочущий город,
минуя все омуты, сонные травы,
дойдёт он до зыбкой, сырой переправы...
Он был компанейский, весёлый, простой, —
поэт благородный со светлой душой.

Искал он истоки в делах повседневных
мелодий тончайших, восторгов душевных,
а мог бы лежать на афганской меже,
убитый и всеми забытый уже.
Мечтой уносился к местам позабытым,
где волны белеют под ветром сердитым,
пером пробиваясь в словесной руде,
а дни проносились в своей череде.
Но кто же мог знать, как мучительно скоро,
оставив вдали наш грохочущий город,
минуя все омуты, сонные травы,
дойдёт он до зыбкой, сырой переправы...
Он был компанейский, весёлый, простой, —
поэт благородный со светлой душой.
мелодий тончайших, восторгов душевных,
а мог бы лежать на афганской меже,
убитый и всеми забытый уже.
Мечтой уносился к местам позабытым,
где волны белеют под ветром сердитым,
пером пробиваясь в словесной руде,
а дни проносились в своей череде.
Но кто же мог знать, как мучительно скоро,
оставив вдали наш грохочущий город,
минуя все омуты, сонные травы,
дойдёт он до зыбкой, сырой переправы...
Он был компанейский, весёлый, простой, —
поэт благородный со светлой душой.

Ника Турбина
Я стою у последней черты,
где кончается связь со вселенной.
Здесь разводят над бездной мосты,
ангел грешный тоскует бессменно.
Обернулась — за мной стоят дни,
что дарили мне лучики света.
Шепчет голос стальной: Ну, шагни!
Ты живёшь вопреки, без билета.
Сочинённая мною строка
пусть вам будет последним билетом.
Я тону и печаль глубока,
опоясана тесным браслетом.
Это просто такая судьба,
за весну затяжную расплата,
где душа была в теле слаба,
да и та отошла без возврата.
Жизнь идёт как сплошной черновик
из сплошных неудач и сомнений.
Как надорванный выстрелом крик
оборвётся глава невезений.
Я стою у последней черты,
где кончается связь со вселенной.
Здесь разводят над бездной мосты,
ангел грешный тоскует бессменно.
Обернулась — за мной стоят дни,
что дарили мне лучики света.
Шепчет голос стальной: Ну, шагни!
Ты живёшь вопреки, без билета.
Сочинённая мною строка
пусть вам будет последним билетом.
Я тону и печаль глубока,
опоясана тесным браслетом.
Это просто такая судьба,
за весну затяжную расплата,
где душа была в теле слаба,
да и та отошла без возврата.
Жизнь идёт как сплошной черновик
из сплошных неудач и сомнений.
Как надорванный выстрелом крик
оборвётся глава невезений.
где кончается связь со вселенной.
Здесь разводят над бездной мосты,
ангел грешный тоскует бессменно.
Обернулась — за мной стоят дни,
что дарили мне лучики света.
Шепчет голос стальной: Ну, шагни!
Ты живёшь вопреки, без билета.
Сочинённая мною строка
пусть вам будет последним билетом.
Я тону и печаль глубока,
опоясана тесным браслетом.
Это просто такая судьба,
за весну затяжную расплата,
где душа была в теле слаба,
да и та отошла без возврата.
Жизнь идёт как сплошной черновик
из сплошных неудач и сомнений.
Как надорванный выстрелом крик
оборвётся глава невезений.
Борис Рыжий
Он родился нежданно–негаданно
в лабиринте фабричных дворов.
Роль была приготовлена, задана:
убегать от ментов и воров.
Было теплое пиво вокзальное,
облака плыли над головой...
И стихи – так щемяще печальные,
и борьба с бесконечной тоской.
Только смерть молчаливая, щедрая
всё идет и идет по пятам.
Снова небо нахмурилось серое.
Может, правда, что счастье лишь там?
Музыканты играют, стараются.
Но заката страшнее рассвет.
Дни летят, но ничто не меняется...
"Больше черного горя, поэт".
2010
Все произведения Б. Рыжего http://snegirev.ucoz.ru/index/boris_ryzhij/0-1470
БИОГРАФИЯ
БОРИС РЫЖИЙ (8 сентября 1974, Челябинск — 7 мая 2001, Екатеринбург) родился в семье учёного. В 1980 его семья переехала в Свердловск. В 14 лет начал писать стихи и в то же время стал чемпионом Свердловска по боксу среди юношей.
В 1991 году Борис Рыжий поступил в Свердловский горный институт и женился; в 1997-м окончил отделение геофизики и геоэкологии Уральской горной академии. В 2000-м окончил аспирантуру Института геофизики Уральского отделения РАН. Проходил практику в геологических партиях на Северном Урале. Опубликовал 18 работ по строению земной коры и сейсмичности Урала и России.
Работал младшим научным сотрудником Института геофизики УрО РАН, литературным сотрудником журнала «Урал». Вел рубрику «Актуальная поэзия с Борисом Рыжим» в газете «Книжный клуб» (Екатеринбург). Участвовал в международном фестивале поэтов в Голландии.
Всего им было написано более 1300 стихотворений, из которых издано около 350. Первая публикация стихов в 1992 в «Российской газете» — «Облака пока не побледнели…», «Елизавет» и «Воплощение в лес». Первая журнальная публикация появилась в 1993 году в «Уральском следопыте» (1993, № 9). Его стихи публиковались в журналах «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион», альманахе «Urbi», переводились на английский, голландский, итальянский, немецкий языки.
Лауреат литературных премий «Антибукер» (номинация «Незнакомка»), «Северная Пальмира». Участвовал в международном фестивале поэтов в Голландии.
Покончил жизнь самоубийством (повесился). Предсмертная записка оканчивается словами: «Я всех любил. Без дураков».
Стихи Бориса Рыжего переведены на многие европейские языки, а в Голландии любовь к нему так велика, что популярная рок-группа Де Кифт записала две песни на его стихи.
В 2008 году голландским режиссером Аленой Ван дер Хорст был снят документальный фильм «Борис Рыжий», получивший приз Silver Wolf на 21 Международном Фестивале Документального Кино в Амстердаме (International Documentary Festival Amsterdam, IDFA) и приз за лучший документальный фильм на Эдинбургском кинофестивале 2009 года (Edinburgh’s International Festival, EIFF)
Режиссер фильма о поэте пытается найти ответ на вопрос: «Почему Борис решил уйти из жизни? Что заставило молодого, талантливого, получившего известность поэта решиться на этот шаг?». Фильм снимался в Екатеринбурге, в районе Вторчермета, где жил Борис Рыжий, режиссер встречалась с его семьей, друзьями, соседями, наблюдала за людьми на улицах, во дворах, магазинах — за теми людьми, о которых писал Б. Рыжий.
Он родился нежданно–негаданно
в лабиринте фабричных дворов.
Роль была приготовлена, задана:
убегать от ментов и воров.
Было теплое пиво вокзальное,
облака плыли над головой...
И стихи – так щемяще печальные,
и борьба с бесконечной тоской.
Только смерть молчаливая, щедрая
всё идет и идет по пятам.
Снова небо нахмурилось серое.
Может, правда, что счастье лишь там?
Музыканты играют, стараются.
Но заката страшнее рассвет.
Дни летят, но ничто не меняется...
"Больше черного горя, поэт".
2010
Все произведения Б. Рыжего http://snegirev.ucoz.ru/index/boris_ryzhij/0-1470
БИОГРАФИЯ
БОРИС РЫЖИЙ (8 сентября 1974, Челябинск — 7 мая 2001, Екатеринбург) родился в семье учёного. В 1980 его семья переехала в Свердловск. В 14 лет начал писать стихи и в то же время стал чемпионом Свердловска по боксу среди юношей.
В 1991 году Борис Рыжий поступил в Свердловский горный институт и женился; в 1997-м окончил отделение геофизики и геоэкологии Уральской горной академии. В 2000-м окончил аспирантуру Института геофизики Уральского отделения РАН. Проходил практику в геологических партиях на Северном Урале. Опубликовал 18 работ по строению земной коры и сейсмичности Урала и России.
Работал младшим научным сотрудником Института геофизики УрО РАН, литературным сотрудником журнала «Урал». Вел рубрику «Актуальная поэзия с Борисом Рыжим» в газете «Книжный клуб» (Екатеринбург). Участвовал в международном фестивале поэтов в Голландии.
Всего им было написано более 1300 стихотворений, из которых издано около 350. Первая публикация стихов в 1992 в «Российской газете» — «Облака пока не побледнели…», «Елизавет» и «Воплощение в лес». Первая журнальная публикация появилась в 1993 году в «Уральском следопыте» (1993, № 9). Его стихи публиковались в журналах «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион», альманахе «Urbi», переводились на английский, голландский, итальянский, немецкий языки.
Лауреат литературных премий «Антибукер» (номинация «Незнакомка»), «Северная Пальмира». Участвовал в международном фестивале поэтов в Голландии.
Покончил жизнь самоубийством (повесился). Предсмертная записка оканчивается словами: «Я всех любил. Без дураков».
Стихи Бориса Рыжего переведены на многие европейские языки, а в Голландии любовь к нему так велика, что популярная рок-группа Де Кифт записала две песни на его стихи.
В 2008 году голландским режиссером Аленой Ван дер Хорст был снят документальный фильм «Борис Рыжий», получивший приз Silver Wolf на 21 Международном Фестивале Документального Кино в Амстердаме (International Documentary Festival Amsterdam, IDFA) и приз за лучший документальный фильм на Эдинбургском кинофестивале 2009 года (Edinburgh’s International Festival, EIFF)
Режиссер фильма о поэте пытается найти ответ на вопрос: «Почему Борис решил уйти из жизни? Что заставило молодого, талантливого, получившего известность поэта решиться на этот шаг?». Фильм снимался в Екатеринбурге, в районе Вторчермета, где жил Борис Рыжий, режиссер встречалась с его семьей, друзьями, соседями, наблюдала за людьми на улицах, во дворах, магазинах — за теми людьми, о которых писал Б. Рыжий.
в лабиринте фабричных дворов.
Роль была приготовлена, задана:
убегать от ментов и воров.
Было теплое пиво вокзальное,
облака плыли над головой...
И стихи – так щемяще печальные,
и борьба с бесконечной тоской.
Только смерть молчаливая, щедрая
всё идет и идет по пятам.
Снова небо нахмурилось серое.
Может, правда, что счастье лишь там?
Музыканты играют, стараются.
Но заката страшнее рассвет.
Дни летят, но ничто не меняется...
"Больше черного горя, поэт".
2010
Все произведения Б. Рыжего http://snegirev.ucoz.ru/index/boris_ryzhij/0-1470
БИОГРАФИЯ
БОРИС РЫЖИЙ (8 сентября 1974, Челябинск — 7 мая 2001, Екатеринбург) родился в семье учёного. В 1980 его семья переехала в Свердловск. В 14 лет начал писать стихи и в то же время стал чемпионом Свердловска по боксу среди юношей.
В 1991 году Борис Рыжий поступил в Свердловский горный институт и женился; в 1997-м окончил отделение геофизики и геоэкологии Уральской горной академии. В 2000-м окончил аспирантуру Института геофизики Уральского отделения РАН. Проходил практику в геологических партиях на Северном Урале. Опубликовал 18 работ по строению земной коры и сейсмичности Урала и России.
Работал младшим научным сотрудником Института геофизики УрО РАН, литературным сотрудником журнала «Урал». Вел рубрику «Актуальная поэзия с Борисом Рыжим» в газете «Книжный клуб» (Екатеринбург). Участвовал в международном фестивале поэтов в Голландии.
Всего им было написано более 1300 стихотворений, из которых издано около 350. Первая публикация стихов в 1992 в «Российской газете» — «Облака пока не побледнели…», «Елизавет» и «Воплощение в лес». Первая журнальная публикация появилась в 1993 году в «Уральском следопыте» (1993, № 9). Его стихи публиковались в журналах «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион», альманахе «Urbi», переводились на английский, голландский, итальянский, немецкий языки.
Лауреат литературных премий «Антибукер» (номинация «Незнакомка»), «Северная Пальмира». Участвовал в международном фестивале поэтов в Голландии.
Покончил жизнь самоубийством (повесился). Предсмертная записка оканчивается словами: «Я всех любил. Без дураков».
Стихи Бориса Рыжего переведены на многие европейские языки, а в Голландии любовь к нему так велика, что популярная рок-группа Де Кифт записала две песни на его стихи.
В 2008 году голландским режиссером Аленой Ван дер Хорст был снят документальный фильм «Борис Рыжий», получивший приз Silver Wolf на 21 Международном Фестивале Документального Кино в Амстердаме (International Documentary Festival Amsterdam, IDFA) и приз за лучший документальный фильм на Эдинбургском кинофестивале 2009 года (Edinburgh’s International Festival, EIFF)
Режиссер фильма о поэте пытается найти ответ на вопрос: «Почему Борис решил уйти из жизни? Что заставило молодого, талантливого, получившего известность поэта решиться на этот шаг?». Фильм снимался в Екатеринбурге, в районе Вторчермета, где жил Борис Рыжий, режиссер встречалась с его семьей, друзьями, соседями, наблюдала за людьми на улицах, во дворах, магазинах — за теми людьми, о которых писал Б. Рыжий.
Вера Полозкова
Красива, молода, но покорить Олимп
ей суждено. В преддверьи громкой славы
уже готовят боги ей алмазный нимб.
Богини улыбаются лукаво.
Как множество людей, живущих и до нас,
- талантлива, сильна, но одинока.
Признание придет позднее, не сейчас,
терпеть – удел поэта и пророка.
Кассандра властвует над сердцем и судьбой.
Душа поет и дарит ощущенья.
Любовь – диагноз. Очевиден явный сбой,
возникший вдруг в последний день творенья.
Ее друзья добры, умеют ярко жить.
Для них творя сверкающее слово,
спешит, - ей некогда покоем дорожить:
заглянет муза - и пропала снова.
Красива, молода, но покорить Олимп
ей суждено. В преддверьи громкой славы
уже готовят боги ей алмазный нимб.
Богини улыбаются лукаво.
Как множество людей, живущих и до нас,
- талантлива, сильна, но одинока.
Признание придет позднее, не сейчас,
терпеть – удел поэта и пророка.
Кассандра властвует над сердцем и судьбой.
Душа поет и дарит ощущенья.
Любовь – диагноз. Очевиден явный сбой,
возникший вдруг в последний день творенья.
Ее друзья добры, умеют ярко жить.
Для них творя сверкающее слово,
спешит, - ей некогда покоем дорожить:
заглянет муза - и пропала снова.
ей суждено. В преддверьи громкой славы
уже готовят боги ей алмазный нимб.
Богини улыбаются лукаво.
Как множество людей, живущих и до нас,
- талантлива, сильна, но одинока.
Признание придет позднее, не сейчас,
терпеть – удел поэта и пророка.
Кассандра властвует над сердцем и судьбой.
Душа поет и дарит ощущенья.
Любовь – диагноз. Очевиден явный сбой,
возникший вдруг в последний день творенья.
Ее друзья добры, умеют ярко жить.
Для них творя сверкающее слово,
спешит, - ей некогда покоем дорожить:
заглянет муза - и пропала снова.
Анатолий Передреев
Хоть на земле великих было мало,
мы все, как можем, с радостью поём.
Родных просторов явно не хватало
твоей душе, тяжёлой на подъём,
«Околица родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село».
Его струна натянута до боли,
душе простой так непомерно жаль
любви святой, рождённой в чистом поле,
печали той, которой дышит даль…
Как хорошо вдвоём с печальной елью
следить в вечерний, безмятежный час
за бесконечной, вечной каруселью
созвездий древних, окруживших нас.
Настрой же струны на гитаре звонкой
на задушевный и старинный лад.
Пусть прозвучит томительно и тонко:
«Сияла ночь, луной был полон сад».
Но не смотри, что вдруг не подпеваю,
лицо своё ладонями закрыл.
Я ничего, мой друг, не забываю,
но вспоминать уж нету больше сил.
Хоть на земле великих было мало,
мы все, как можем, с радостью поём.
Родных просторов явно не хватало
твоей душе, тяжёлой на подъём,
«Околица родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село».
Его струна натянута до боли,
душе простой так непомерно жаль
любви святой, рождённой в чистом поле,
печали той, которой дышит даль…
Как хорошо вдвоём с печальной елью
следить в вечерний, безмятежный час
за бесконечной, вечной каруселью
созвездий древних, окруживших нас.
Настрой же струны на гитаре звонкой
на задушевный и старинный лад.
Пусть прозвучит томительно и тонко:
«Сияла ночь, луной был полон сад».
Но не смотри, что вдруг не подпеваю,
лицо своё ладонями закрыл.
Я ничего, мой друг, не забываю,
но вспоминать уж нету больше сил.
мы все, как можем, с радостью поём.
Родных просторов явно не хватало
твоей душе, тяжёлой на подъём,
«Околица родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село».
Его струна натянута до боли,
душе простой так непомерно жаль
любви святой, рождённой в чистом поле,
печали той, которой дышит даль…
Как хорошо вдвоём с печальной елью
следить в вечерний, безмятежный час
за бесконечной, вечной каруселью
созвездий древних, окруживших нас.
Настрой же струны на гитаре звонкой
на задушевный и старинный лад.
Пусть прозвучит томительно и тонко:
«Сияла ночь, луной был полон сад».
Но не смотри, что вдруг не подпеваю,
лицо своё ладонями закрыл.
Я ничего, мой друг, не забываю,
но вспоминать уж нету больше сил.
Александр Кушнер
Александр Кушнер
На античной вазе выступает
Человечков дивный хоровод.
Как незаметно ночь прошла…
Печалью книг дышали свечи.
В приюте света и тепла
я разбирал оттенки речи.
Всего-то было: хоровод
и красота античной вазы.
Неясно — кто за кем идёт,
куда ведёт плетенье фразы.
И каждый пляшет, каждый рад...
Смешные, право, человечки.
Один вперёд — другой назад,
как неразумные овечки.
Как много кануло веков
во тьму седую, в эту бездну.
Я не люблю излишних слов, -
быть может, им на вазе тесно?
Не оставляй своё перо.
Хоть времена не выбирают,
пусть ляжет на душу добро,
и человечки поиграют.

Александр Кушнер
На античной вазе выступает
Человечков дивный хоровод.
Как незаметно ночь прошла…
Печалью книг дышали свечи.
В приюте света и тепла
я разбирал оттенки речи.
Всего-то было: хоровод
и красота античной вазы.
Неясно — кто за кем идёт,
куда ведёт плетенье фразы.
И каждый пляшет, каждый рад...
Смешные, право, человечки.
Один вперёд — другой назад,
как неразумные овечки.
Как много кануло веков
во тьму седую, в эту бездну.
Я не люблю излишних слов, -
быть может, им на вазе тесно?
Не оставляй своё перо.
Хоть времена не выбирают,
пусть ляжет на душу добро,
и человечки поиграют.
На античной вазе выступает
Человечков дивный хоровод.
Как незаметно ночь прошла…
Печалью книг дышали свечи.
В приюте света и тепла
я разбирал оттенки речи.
Всего-то было: хоровод
и красота античной вазы.
Неясно — кто за кем идёт,
куда ведёт плетенье фразы.
И каждый пляшет, каждый рад...
Смешные, право, человечки.
Один вперёд — другой назад,
как неразумные овечки.
Как много кануло веков
во тьму седую, в эту бездну.
Я не люблю излишних слов, -
быть может, им на вазе тесно?
Не оставляй своё перо.
Хоть времена не выбирают,
пусть ляжет на душу добро,
и человечки поиграют.

Станислав Куняев
"Добро должно быть с кулаками".
По мне - так лучше АКМ.
Не надо рвать врага зубами,
нажал курок – и нет проблем.
Среди воров, бандитов, пьяниц
мне без него нельзя никак.
В Кремле – какой-то самозванец,
в стране развал, везде бардак.
Как дальше жить, никто не знает.
Мы все – и жертва, и палач.
И каждый роль свою играет,
ища причину неудач.
А Русь такая же, как прежде.
Простор открыт и величав.
Любви, поэзии, надежде
всю жизнь отдал. И был он прав.

"Добро должно быть с кулаками".
По мне - так лучше АКМ.
Не надо рвать врага зубами,
нажал курок – и нет проблем.
Среди воров, бандитов, пьяниц
мне без него нельзя никак.
В Кремле – какой-то самозванец,
в стране развал, везде бардак.
Как дальше жить, никто не знает.
Мы все – и жертва, и палач.
И каждый роль свою играет,
ища причину неудач.
А Русь такая же, как прежде.
Простор открыт и величав.
Любви, поэзии, надежде
всю жизнь отдал. И был он прав.
По мне - так лучше АКМ.
Не надо рвать врага зубами,
нажал курок – и нет проблем.
Среди воров, бандитов, пьяниц
мне без него нельзя никак.
В Кремле – какой-то самозванец,
в стране развал, везде бардак.
Как дальше жить, никто не знает.
Мы все – и жертва, и палач.
И каждый роль свою играет,
ища причину неудач.
А Русь такая же, как прежде.
Простор открыт и величав.
Любви, поэзии, надежде
всю жизнь отдал. И был он прав.

Светлана Кузнецова
"...нужен мне только мой черный наряд,
Прозрачные черные крылья..."
С. Кузнецова
Умную женщину ждет одиночество,
ночи бессонные, море тоски,
памятник скромный, забытое творчество,
горечь стихов, боль звенящей строки.
Сердце нам трогает легкость стыдливая,
только смущает лишь черный наряд.
Мне бы хотелось, чтоб Муза ревнивая
и на тебя бы свой бросила взгляд.
Мы говорим всё, а время так тянется,
воды несутся в родных берегах...
Где ты сейчас, молчаливая странница,
в чьих ты томишься задумчивых снах?
Людям всё грезятся тайны, пророчества.
Нет, не решаюсь я спорить с судьбой.
Просто я рад, что в стране одиночества
есть еще праздники – встречи с тобой.
2009
Все произведения Светланы Кузнецовой http://snegirev.ucoz.ru/index/svetlana_kuznecova/0-249
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (1934-1988) – русская поэтесса второй половины XX века.
Автор одиннадцати книг: «Проталины» (1962), «Только о любви», Библиотека журнала «Огонек» (1963), «Светлана Кузнецова», Библиотечка избранной лирики (1964), «Соболи» (1965), "Сретенье" (1969), "Забереги" (1972), "Гадание Светланы" (1982), «Соболиная тропа» (1983), «Стихотворения» (1986). После смерти С. Кузнецовой (30.8.1988 г.) вышли две книги - "Второе гадание Светланы" (1989), «СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА Избранное. Стихи» (1990).
Стихотворения Светланы публиковались в ежегоднике «День поэзии». Ее печатал Твардовский в журнале «Новый мир». В «Новом мире» она печаталась и позже, также и в журнале «Огонек» и других советских журналах. Ее стихи появлялись в «Литературной газете» и в газете «Литературная Россия».
Из статьи Наталии Егоровой "Золотой самородок на соболиной тропе": «В истории русской поэзии второй половины XX века Светлана Кузнецова стоит особняком. Трагическая фигура в чёрном с гордо поднятой головой и несломленной статью» …
Всех, знавших её, Светлана Кузнецова поражала человеческой значительностью, особой сибирской несгибаемой породой, гордостью, простотой и цельностью натуры, удивительной неслучайностью и необычностью судьбы, – словно бы специально задуманной Богом для большого русского поэта...
В последние два десятилетия жизни она не печаталась ни в литературных газетах, ни в толстых литературных журналах. Только редкие книги в "Советском писателе" нарушали сомкнувшееся сибирскими снегами безмолвие.
Незадолго до её смерти Юрий Кузнецов со свойственными ему прямотой и честностью нарушил затянувшееся молчание и в статье, написанной специально для "Литературной газеты", поставил Светлану Кузнецову в один ряд с Цветаевой и Ахматовой.
После смерти С. Кузнецовой о значении её творчества написал Вадим Кожинов: "Со всей взвешенностью и ответственностью скажу, что лучшие из зрелых стихотворений Светланы Кузнецовой – самое значительное из того, что было создано в русской женской поэзии после Анны Ахматовой... в отличие от подавляющего большинства твердящих сегодня о мраке и хаосе стихотворцев, у Светланы Кузнецовой и в помине нет характернейшего мотива: вот, мол, в какой проклятой Богом стране приходится мне жить и мыслить! Светлана Кузнецова... не отделяет от себя совершившееся и совершающееся..." ("День", № 23, 1991 г.).
Судьба виделась поэту оброненным в сугробы тяжёлым наследственным золотым крестом первопроходцев и золотодобытчиков, Россия — золотым самородком, сверкающим на белом снегу атомной страны.
Похоронена Светлана Кузнецова в Москве на Ваганьковском кладбище.

"...нужен мне только мой черный наряд,
Прозрачные черные крылья..."
С. Кузнецова
Умную женщину ждет одиночество,
ночи бессонные, море тоски,
памятник скромный, забытое творчество,
горечь стихов, боль звенящей строки.
Сердце нам трогает легкость стыдливая,
только смущает лишь черный наряд.
Мне бы хотелось, чтоб Муза ревнивая
и на тебя бы свой бросила взгляд.
Мы говорим всё, а время так тянется,
воды несутся в родных берегах...
Где ты сейчас, молчаливая странница,
в чьих ты томишься задумчивых снах?
Людям всё грезятся тайны, пророчества.
Нет, не решаюсь я спорить с судьбой.
Просто я рад, что в стране одиночества
есть еще праздники – встречи с тобой.
2009
Все произведения Светланы Кузнецовой http://snegirev.ucoz.ru/index/svetlana_kuznecova/0-249
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (1934-1988) – русская поэтесса второй половины XX века.
Автор одиннадцати книг: «Проталины» (1962), «Только о любви», Библиотека журнала «Огонек» (1963), «Светлана Кузнецова», Библиотечка избранной лирики (1964), «Соболи» (1965), "Сретенье" (1969), "Забереги" (1972), "Гадание Светланы" (1982), «Соболиная тропа» (1983), «Стихотворения» (1986). После смерти С. Кузнецовой (30.8.1988 г.) вышли две книги - "Второе гадание Светланы" (1989), «СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА Избранное. Стихи» (1990).
Стихотворения Светланы публиковались в ежегоднике «День поэзии». Ее печатал Твардовский в журнале «Новый мир». В «Новом мире» она печаталась и позже, также и в журнале «Огонек» и других советских журналах. Ее стихи появлялись в «Литературной газете» и в газете «Литературная Россия».
Из статьи Наталии Егоровой "Золотой самородок на соболиной тропе": «В истории русской поэзии второй половины XX века Светлана Кузнецова стоит особняком. Трагическая фигура в чёрном с гордо поднятой головой и несломленной статью» …
Всех, знавших её, Светлана Кузнецова поражала человеческой значительностью, особой сибирской несгибаемой породой, гордостью, простотой и цельностью натуры, удивительной неслучайностью и необычностью судьбы, – словно бы специально задуманной Богом для большого русского поэта...
В последние два десятилетия жизни она не печаталась ни в литературных газетах, ни в толстых литературных журналах. Только редкие книги в "Советском писателе" нарушали сомкнувшееся сибирскими снегами безмолвие.
Незадолго до её смерти Юрий Кузнецов со свойственными ему прямотой и честностью нарушил затянувшееся молчание и в статье, написанной специально для "Литературной газеты", поставил Светлану Кузнецову в один ряд с Цветаевой и Ахматовой.
После смерти С. Кузнецовой о значении её творчества написал Вадим Кожинов: "Со всей взвешенностью и ответственностью скажу, что лучшие из зрелых стихотворений Светланы Кузнецовой – самое значительное из того, что было создано в русской женской поэзии после Анны Ахматовой... в отличие от подавляющего большинства твердящих сегодня о мраке и хаосе стихотворцев, у Светланы Кузнецовой и в помине нет характернейшего мотива: вот, мол, в какой проклятой Богом стране приходится мне жить и мыслить! Светлана Кузнецова... не отделяет от себя совершившееся и совершающееся..." ("День", № 23, 1991 г.).
Судьба виделась поэту оброненным в сугробы тяжёлым наследственным золотым крестом первопроходцев и золотодобытчиков, Россия — золотым самородком, сверкающим на белом снегу атомной страны.
Похоронена Светлана Кузнецова в Москве на Ваганьковском кладбище.
Прозрачные черные крылья..."
С. Кузнецова
Умную женщину ждет одиночество,
ночи бессонные, море тоски,
памятник скромный, забытое творчество,
горечь стихов, боль звенящей строки.
Сердце нам трогает легкость стыдливая,
только смущает лишь черный наряд.
Мне бы хотелось, чтоб Муза ревнивая
и на тебя бы свой бросила взгляд.
Мы говорим всё, а время так тянется,
воды несутся в родных берегах...
Где ты сейчас, молчаливая странница,
в чьих ты томишься задумчивых снах?
Людям всё грезятся тайны, пророчества.
Нет, не решаюсь я спорить с судьбой.
Просто я рад, что в стране одиночества
есть еще праздники – встречи с тобой.
2009
Все произведения Светланы Кузнецовой http://snegirev.ucoz.ru/index/svetlana_kuznecova/0-249
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (1934-1988) – русская поэтесса второй половины XX века.
Автор одиннадцати книг: «Проталины» (1962), «Только о любви», Библиотека журнала «Огонек» (1963), «Светлана Кузнецова», Библиотечка избранной лирики (1964), «Соболи» (1965), "Сретенье" (1969), "Забереги" (1972), "Гадание Светланы" (1982), «Соболиная тропа» (1983), «Стихотворения» (1986). После смерти С. Кузнецовой (30.8.1988 г.) вышли две книги - "Второе гадание Светланы" (1989), «СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА Избранное. Стихи» (1990).
Стихотворения Светланы публиковались в ежегоднике «День поэзии». Ее печатал Твардовский в журнале «Новый мир». В «Новом мире» она печаталась и позже, также и в журнале «Огонек» и других советских журналах. Ее стихи появлялись в «Литературной газете» и в газете «Литературная Россия».
Из статьи Наталии Егоровой "Золотой самородок на соболиной тропе": «В истории русской поэзии второй половины XX века Светлана Кузнецова стоит особняком. Трагическая фигура в чёрном с гордо поднятой головой и несломленной статью» …
Всех, знавших её, Светлана Кузнецова поражала человеческой значительностью, особой сибирской несгибаемой породой, гордостью, простотой и цельностью натуры, удивительной неслучайностью и необычностью судьбы, – словно бы специально задуманной Богом для большого русского поэта...
В последние два десятилетия жизни она не печаталась ни в литературных газетах, ни в толстых литературных журналах. Только редкие книги в "Советском писателе" нарушали сомкнувшееся сибирскими снегами безмолвие.
Незадолго до её смерти Юрий Кузнецов со свойственными ему прямотой и честностью нарушил затянувшееся молчание и в статье, написанной специально для "Литературной газеты", поставил Светлану Кузнецову в один ряд с Цветаевой и Ахматовой.
После смерти С. Кузнецовой о значении её творчества написал Вадим Кожинов: "Со всей взвешенностью и ответственностью скажу, что лучшие из зрелых стихотворений Светланы Кузнецовой – самое значительное из того, что было создано в русской женской поэзии после Анны Ахматовой... в отличие от подавляющего большинства твердящих сегодня о мраке и хаосе стихотворцев, у Светланы Кузнецовой и в помине нет характернейшего мотива: вот, мол, в какой проклятой Богом стране приходится мне жить и мыслить! Светлана Кузнецова... не отделяет от себя совершившееся и совершающееся..." ("День", № 23, 1991 г.).
Судьба виделась поэту оброненным в сугробы тяжёлым наследственным золотым крестом первопроходцев и золотодобытчиков, Россия — золотым самородком, сверкающим на белом снегу атомной страны.
Похоронена Светлана Кузнецова в Москве на Ваганьковском кладбище.

Денис Коротаев
"Не осуждай меня, мой Бог",
за то, что жил совсем немного.
В краю нехоженых дорог
прими ты ласково и строго.
"Теряя нервы и года"
мы все идем к тебе на встречу,
недолюбив, недострадав...
И вот, опять, сияют свечи.
Уходят лучшие всегда
до срока, видно так угодно
тому, кто нас прислал сюда.
И кто опять уйдет сегодня?
ДЕНИС КОРОТАЕВ (1967, Москва – 2003, Подмосковье)
в 1991 окончил Московский физико-технический институт и поступил в аспирантуру Института прикладной механики АН СССР, где, выполнив работу по гидродинамике, защитил кандидатскую диссертацию (1996). Преподавал математику, а затем и информатику в Московской государственной академии приборостроения и информатики. Стихи начал писать в 1988. Публиковался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», газетах «Литературная Россия», «Завтра», «Правда» и др., а также коллективных сборниках. Автор сборников стихов Проводник (1994), На развалинах эпохи (1995), Белые тени (1998), Итак (2001). Вёл поэтическую студию в своей академии, преподавал стихосложение на факультете журналистики МГУ. Член Союза писателей России с 1994, лауреат Есенинской премии России в 1996. Погиб в автомобильной катастрофе 8 августа 2003. Посмертно, в 2004, вышел составленный отцом сборник стихов "Автоэпитафия".

"Не осуждай меня, мой Бог",
за то, что жил совсем немного.
В краю нехоженых дорог
прими ты ласково и строго.
"Теряя нервы и года"
мы все идем к тебе на встречу,
недолюбив, недострадав...
И вот, опять, сияют свечи.
Уходят лучшие всегда
до срока, видно так угодно
тому, кто нас прислал сюда.
И кто опять уйдет сегодня?
за то, что жил совсем немного.
В краю нехоженых дорог
прими ты ласково и строго.
"Теряя нервы и года"
мы все идем к тебе на встречу,
недолюбив, недострадав...
И вот, опять, сияют свечи.
Уходят лучшие всегда
до срока, видно так угодно
тому, кто нас прислал сюда.
И кто опять уйдет сегодня?
ДЕНИС КОРОТАЕВ (1967, Москва – 2003, Подмосковье)
в 1991 окончил Московский физико-технический институт и поступил в аспирантуру Института прикладной механики АН СССР, где, выполнив работу по гидродинамике, защитил кандидатскую диссертацию (1996). Преподавал математику, а затем и информатику в Московской государственной академии приборостроения и информатики. Стихи начал писать в 1988. Публиковался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», газетах «Литературная Россия», «Завтра», «Правда» и др., а также коллективных сборниках. Автор сборников стихов Проводник (1994), На развалинах эпохи (1995), Белые тени (1998), Итак (2001). Вёл поэтическую студию в своей академии, преподавал стихосложение на факультете журналистики МГУ. Член Союза писателей России с 1994, лауреат Есенинской премии России в 1996. Погиб в автомобильной катастрофе 8 августа 2003. Посмертно, в 2004, вышел составленный отцом сборник стихов "Автоэпитафия".

Тимур Кибиров
От чувств буквально обмираю
к твоим стихам.
Как много сказочных находок
то тут, то там.
С каким эпическим размахом
строка летит.
Ему покорны звуки рифмы
и алфавит,
слова немыслимых оттенков,
как жизнь вокруг.
Чем прихотливее узоры,
тем чище звук.
В его стихах уют домашний
и связь эпох,
лозы подлунной прозябанье
и «с нами Бог!»,
дебиловатая казарма,
в душе тоска,
туманы Англии далёкой,
времён река.
Ещё там город очень дивный
что спит в снегу.
I'm sorry...
Писать так длинно, как Кибиров,
я не могу.
к твоим стихам.
Как много сказочных находок
то тут, то там.
С каким эпическим размахом
строка летит.
Ему покорны звуки рифмы
и алфавит,
слова немыслимых оттенков,
как жизнь вокруг.
Чем прихотливее узоры,
тем чище звук.
В его стихах уют домашний
и связь эпох,
лозы подлунной прозябанье
и «с нами Бог!»,
дебиловатая казарма,
в душе тоска,
туманы Англии далёкой,
времён река.
Ещё там город очень дивный
что спит в снегу.
I'm sorry...
Писать так длинно, как Кибиров,
я не могу.
Вера Инбер
1.
От легких касаний мигрени
в ушах слышен шепот и звон.
Пусть бродят прозрачные тени.
Я верю в предутренний сон.
Мне снится, что звездное небо
заходит тихонько в мой дом.
Я верю отчаянно, слепо:
Гомер был со мною знаком.
Я счастье ему приносила,
судьбой была связана с ним.
Не этого там я просила,
ведь слава растает, как дым.
Хотела быть просто влюбленной,
не ведать забот и стыда,
желанной, счастливой, покорной.
И только его навсегда.
И губы пахли мятой и грехом.
Но было это раньше, а потом...
2. Письмо сыну
Я знаю ты на линии огня
лицом к врагу – он подлый и ужасный.
Ты был надеждой светлой для меня -
единственный, желанный и прекрасный.
А враг глумится над отчизной нашей.
Будь тверд в бою, отважен и бесстрашен.
Не жди, пока укутают снега
всю землю – от Днепра и до Урала.
Убей его, сейчас убей врага!
Он ненасытен и ему всё мало.
Будь прокляты фашистские злодеи.
Молю тебя – нажми курок скорее.
Мы отошли от Ветхого завета.
У нас теперь одно лишь чувство — Месть.
Он мертв уже – благодарю за это!
Я от тебя лишь эту жажду весть.
С лица земли их будет сотни стертых
врагов — за каждого из наших мертвых.
1.
От легких касаний мигрени
в ушах слышен шепот и звон.
Пусть бродят прозрачные тени.
Я верю в предутренний сон.
Мне снится, что звездное небо
заходит тихонько в мой дом.
Я верю отчаянно, слепо:
Гомер был со мною знаком.
Я счастье ему приносила,
судьбой была связана с ним.
Не этого там я просила,
ведь слава растает, как дым.
Хотела быть просто влюбленной,
не ведать забот и стыда,
желанной, счастливой, покорной.
И только его навсегда.
И губы пахли мятой и грехом.
Но было это раньше, а потом...
2. Письмо сыну
Я знаю ты на линии огня
лицом к врагу – он подлый и ужасный.
Ты был надеждой светлой для меня -
единственный, желанный и прекрасный.
А враг глумится над отчизной нашей.
Будь тверд в бою, отважен и бесстрашен.
Не жди, пока укутают снега
всю землю – от Днепра и до Урала.
Убей его, сейчас убей врага!
Он ненасытен и ему всё мало.
Будь прокляты фашистские злодеи.
Молю тебя – нажми курок скорее.
Мы отошли от Ветхого завета.
У нас теперь одно лишь чувство — Месть.
Он мертв уже – благодарю за это!
Я от тебя лишь эту жажду весть.
С лица земли их будет сотни стертых
врагов — за каждого из наших мертвых.
От легких касаний мигрени
в ушах слышен шепот и звон.
Пусть бродят прозрачные тени.
Я верю в предутренний сон.
Мне снится, что звездное небо
заходит тихонько в мой дом.
Я верю отчаянно, слепо:
Гомер был со мною знаком.
Я счастье ему приносила,
судьбой была связана с ним.
Не этого там я просила,
ведь слава растает, как дым.
Хотела быть просто влюбленной,
не ведать забот и стыда,
желанной, счастливой, покорной.
И только его навсегда.
И губы пахли мятой и грехом.
Но было это раньше, а потом...
2. Письмо сыну
Я знаю ты на линии огня
лицом к врагу – он подлый и ужасный.
Ты был надеждой светлой для меня -
единственный, желанный и прекрасный.
А враг глумится над отчизной нашей.
Будь тверд в бою, отважен и бесстрашен.
Не жди, пока укутают снега
всю землю – от Днепра и до Урала.
Убей его, сейчас убей врага!
Он ненасытен и ему всё мало.
Будь прокляты фашистские злодеи.
Молю тебя – нажми курок скорее.
Мы отошли от Ветхого завета.
У нас теперь одно лишь чувство — Месть.
Он мертв уже – благодарю за это!
Я от тебя лишь эту жажду весть.
С лица земли их будет сотни стертых
врагов — за каждого из наших мертвых.
Глеб Горбовский
Писал ненужные стихи
под легким флёром вдохновенья.
Из сора, пыли и трухи
он создавал свои творенья.
Как жаль, что люди к ним глухи.
Сей факт достоин сожаленья.
Музейный город – Ленинград.
В нем жил поэт в большой квартире.
Соседей скучных длинный ряд
на кухне – как мишени в тире.
В стих попадало всё подряд:
...кастрюли, ...дрязги, ...вонь в сортире.
Потом тайга – далекий край,
работа вечно на пределе,
пустой желудок, крепкий чай,
в палатке спишь – а не в постели.
И тонешь ночью в звездной чаще,
себя губя в происходящем...

Писал ненужные стихи
под легким флёром вдохновенья.
Из сора, пыли и трухи
он создавал свои творенья.
Как жаль, что люди к ним глухи.
Сей факт достоин сожаленья.
Музейный город – Ленинград.
В нем жил поэт в большой квартире.
Соседей скучных длинный ряд
на кухне – как мишени в тире.
В стих попадало всё подряд:
...кастрюли, ...дрязги, ...вонь в сортире.
Потом тайга – далекий край,
работа вечно на пределе,
пустой желудок, крепкий чай,
в палатке спишь – а не в постели.
И тонешь ночью в звездной чаще,
себя губя в происходящем...
под легким флёром вдохновенья.
Из сора, пыли и трухи
он создавал свои творенья.
Как жаль, что люди к ним глухи.
Сей факт достоин сожаленья.
Музейный город – Ленинград.
В нем жил поэт в большой квартире.
Соседей скучных длинный ряд
на кухне – как мишени в тире.
В стих попадало всё подряд:
...кастрюли, ...дрязги, ...вонь в сортире.
Потом тайга – далекий край,
работа вечно на пределе,
пустой желудок, крепкий чай,
в палатке спишь – а не в постели.
И тонешь ночью в звездной чаще,
себя губя в происходящем...

Встречи и разлуки Майе
Румянцевой
Ах, как весело и звонко
Под ногами снег скрипит.
Сероглазая девчонка
Не шагает, а – летит!
- Вот, опять мешают руки!
До чего ж они слабы…
…Будут встречи и разлуки,
Превратит их время в быль.
Но она ещё не знает,
Не шагает, а – летит!
Встречный ветер помогает.
Солнце весело горит.
Майя Александровна Румянцева родилась в 1928 году В Москве. Много лет жила в
Тамбове, здесь создала немало замечательных произведений, с 1968 года и до
последних дней была ответственным секретарем Тамбовской областной писательской
организации.
http://www.stihi.ru/2012/03/21/2782
Ах, как весело и звонко
Под ногами снег скрипит.
Сероглазая девчонка
Не шагает, а – летит!
- Вот, опять мешают руки!
До чего ж они слабы…
…Будут встречи и разлуки,
Превратит их время в быль.
Но она ещё не знает,
Не шагает, а – летит!
Встречный ветер помогает.
Солнце весело горит.
Майя Александровна Румянцева родилась в 1928 году В Москве. Много лет жила в Тамбове, здесь создала немало замечательных произведений, с 1968 года и до последних дней была ответственным секретарем Тамбовской областной писательской организации.
http://www.stihi.ru/2012/03/21/2782
Под ногами снег скрипит.
Сероглазая девчонка
Не шагает, а – летит!
- Вот, опять мешают руки!
До чего ж они слабы…
…Будут встречи и разлуки,
Превратит их время в быль.
Но она ещё не знает,
Не шагает, а – летит!
Встречный ветер помогает.
Солнце весело горит.
Майя Александровна Румянцева родилась в 1928 году В Москве. Много лет жила в Тамбове, здесь создала немало замечательных произведений, с 1968 года и до последних дней была ответственным секретарем Тамбовской областной писательской организации.
http://www.stihi.ru/2012/03/21/2782
Таланты Её дороги
Памяти М. А. Румянцевой
Памяти М. А. Румянцевой
Ветер уносил её тревоги,
Грусть смывали добрые дожди,
И вели бескрайние дороги,
Только было ль счастье впереди?
Шла она, и верила дорогам,
Не смотрела никогда назад,
Впечатлений накопила много,
И о них успела рассказать.
И тепло души всем раздавала,
А себе не берегла его…
Но всегда и верила, и знала:
Отдавать — надёжнее всего.
Так хотела, чтобы люди были
Рады жизни, голубой звезде,
И любви рассветы вечно плыли
В алой, тихой, утренней воде.
Памяти М. А. Румянцевой
Ветер уносил её тревоги,
Грусть смывали добрые дожди,
И вели бескрайние дороги,
Только было ль счастье впереди?
Шла она, и верила дорогам,
Не смотрела никогда назад,
Впечатлений накопила много,
И о них успела рассказать.
И тепло души всем раздавала,
А себе не берегла его…
Но всегда и верила, и знала:
Отдавать — надёжнее всего.
Так хотела, чтобы люди были
Рады жизни, голубой звезде,
И любви рассветы вечно плыли
В алой, тихой, утренней воде.
Ветер уносил её тревоги,
Грусть смывали добрые дожди,
И вели бескрайние дороги,
Только было ль счастье впереди?
Шла она, и верила дорогам,
Не смотрела никогда назад,
Впечатлений накопила много,
И о них успела рассказать.
И тепло души всем раздавала,
А себе не берегла его…
Но всегда и верила, и знала:
Отдавать — надёжнее всего.
Так хотела, чтобы люди были
Рады жизни, голубой звезде,
И любви рассветы вечно плыли
В алой, тихой, утренней воде.
Владимиру Фирсову
Твой дом в раздумье погружён,
Берёзы шепчут по-соседству,
Не памяти твой дом лишён,
Здесь стены слышат голос детства,
И стук ведра, и плеск воды,
И материнский дивный голос,
О, если б не было беды,
О, если б хлеба полный колос!
Эвакуация, война,
А дом всё помнит. Не забыто,
Как надрывалась вся страна,
Как дружбу сеяли сквозь сито,
И, как на всех делили соль,
Как получали похоронки,
И,как изматывала боль
И скорбь, летевшая вдогонку.
Как молодых вводили жён
В свой дом с нехитрыми дарами,
В нём первый том был завершён
С неповторимыми стихами.
Давно ушли отец и мать
Тебя, оставив сиротою,
И сам решал, кем в жизни стать
С непогрешимостью святою.
Стихами путь твой завершён,
А это - главное, наверно.
А дом в раздумье погружён,
Хранитель верности безмерной.
Твой дом в раздумье погружён,
Берёзы шепчут по-соседству,
Не памяти твой дом лишён,
Здесь стены слышат голос детства,
И стук ведра, и плеск воды,
И материнский дивный голос,
О, если б не было беды,
О, если б хлеба полный колос!
Эвакуация, война,
А дом всё помнит. Не забыто,
Как надрывалась вся страна,
Как дружбу сеяли сквозь сито,
И, как на всех делили соль,
Как получали похоронки,
И,как изматывала боль
И скорбь, летевшая вдогонку.
Как молодых вводили жён
В свой дом с нехитрыми дарами,
В нём первый том был завершён
С неповторимыми стихами.
Давно ушли отец и мать
Тебя, оставив сиротою,
И сам решал, кем в жизни стать
С непогрешимостью святою.
Стихами путь твой завершён,
А это - главное, наверно.
А дом в раздумье погружён,
Хранитель верности безмерной.
Берёзы шепчут по-соседству,
Не памяти твой дом лишён,
Здесь стены слышат голос детства,
И стук ведра, и плеск воды,
И материнский дивный голос,
О, если б не было беды,
О, если б хлеба полный колос!
Эвакуация, война,
А дом всё помнит. Не забыто,
Как надрывалась вся страна,
Как дружбу сеяли сквозь сито,
И, как на всех делили соль,
Как получали похоронки,
И,как изматывала боль
И скорбь, летевшая вдогонку.
Как молодых вводили жён
В свой дом с нехитрыми дарами,
В нём первый том был завершён
С неповторимыми стихами.
Давно ушли отец и мать
Тебя, оставив сиротою,
И сам решал, кем в жизни стать
С непогрешимостью святою.
Стихами путь твой завершён,
А это - главное, наверно.
А дом в раздумье погружён,
Хранитель верности безмерной.
Посвящения В. Кострову
В. Кострову
Ты говоришь, что умираешь
На лавке, сидя у стрехи,
Что не хватает, видно, рая,
Что вяжут прежние грехи,
А я твои стихи читала,
Искала в них саму себя,
Хотелось всё начать сначала,
Чтоб встретить прежнего тебя,
Где над лампадами иконы
Рядком висели на стене
И, где советские законы
Сжигали старое во мне,
Как ворохи осенних листьев
Октябрь сжигает во дворах,
Не ельцинская свора лисья,
Селившая разор и страх.
Уйти б с тобой в страну иную,
Где будущность была в цвету,
Но кто сыграл ту шутку злую,
Коль я дороги не найду.
***
В. Кострову
Ты сказал, что от страшного века устал.
И ушёл, и писать, и дышать перестал.
Мне пока помогает аптека…
Вл. Соколову В Костров.
Вы боялись грядущего века,
Двадцать первый – суров и жесток,
Что не справится наша аптека,
Век загубит душевный росток,
Человечество, вдруг, очерствеет
Не от войн и страданий людских,
Новый век равнодушье навеет
И желанье излишеств мирских,
Сытый видит и слышит всё хуже,
И не чувствует, и не живёт,
Не ступает по солнышку в луже,
И по зернышку правды не ждёт,
Не сидит ночь безлунную в парке,
Не поёт под окошком в мороз,
Не целует так сочно и ярко,
Холод сердце пронижет насквозь.
Зря боялись остуды кромешной,
И не фанта в ней стала виной,
Любят так же отчаянно грешно,
И за родину встанут стеной.
Вы не бойтесь идущего века,
Будет, верьте мне, двадцать второй,
Магазин и фонарь, и аптека,
Обелиски над Лысой горой.
(Мамаев Курган и Лысая гора – 2 высоты Сталинграда)
***
И как пророк в сухой пустыне,
С надеждой глядя в небеса,
Почти оглохшая Россия
Внимает эти голоса.
В. Костров.
Нет, не оглохла, а скончалась,
Как было в жизни много раз,
И так же снова возрождалась,
И, не впуская в сердце жалость,
Сияла синью русских глаз.
Не раз тебя снимали с дыбы,
Колесовали упыри,
Но, помолившись до зари,
И, усмирив свой гневный крик,
Крестясь, шептала ты: - Спасибо.
По крохам собирала гущу,
Чтоб накормить своих детей,
И, чтобы день был не упущен
Трудилась яростнее, пуще,
Познав истоки скоростей,
И вновь твои трещали кости,
Стыдясь, вопил пустой живот,
Но, в стылый край, вбивая гвозди,
Скорбя и плача на погосте,
Всегда ты верила в народ!
В. Кострову
Греми, не греми, в том ли дело?!
Душа ваша, знаю, чиста,
Не важно, что время хотело,
Оно, как листва облетело,
Ведь истина мира проста.
Оставив могильные стелы,
Нам память отмерила срок,
И шумные злые метели,
Что груз двести быстро отпели,
Отметив нам пеплом висок.
Пусть строят дворцы ошалело,
Забыв и про совесть, и страх,
Душа их давно отлетела,
Не мучилась, так захотела,
Коль доллар царит на губах
Не знать бы вовек казнокрадства,
И деток Рублёвки б не знать,
Во имя незримого братства
мне хочется с вами обняться,
чтоб боль вашу сердцем принять.
В. Кострову
Ты говоришь, что умираешь
На лавке, сидя у стрехи,
Что не хватает, видно, рая,
Что вяжут прежние грехи,
А я твои стихи читала,
Искала в них саму себя,
Хотелось всё начать сначала,
Чтоб встретить прежнего тебя,
Где над лампадами иконы
Рядком висели на стене
И, где советские законы
Сжигали старое во мне,
Как ворохи осенних листьев
Октябрь сжигает во дворах,
Не ельцинская свора лисья,
Селившая разор и страх.
Уйти б с тобой в страну иную,
Где будущность была в цвету,
Но кто сыграл ту шутку злую,
Коль я дороги не найду.
***
В. Кострову
Ты сказал, что от страшного века устал.
И ушёл, и писать, и дышать перестал.
Мне пока помогает аптека…
Вл. Соколову В Костров.
Вы боялись грядущего века,
Двадцать первый – суров и жесток,
Что не справится наша аптека,
Век загубит душевный росток,
Человечество, вдруг, очерствеет
Не от войн и страданий людских,
Новый век равнодушье навеет
И желанье излишеств мирских,
Сытый видит и слышит всё хуже,
И не чувствует, и не живёт,
Не ступает по солнышку в луже,
И по зернышку правды не ждёт,
Не сидит ночь безлунную в парке,
Не поёт под окошком в мороз,
Не целует так сочно и ярко,
Холод сердце пронижет насквозь.
Зря боялись остуды кромешной,
И не фанта в ней стала виной,
Любят так же отчаянно грешно,
И за родину встанут стеной.
Вы не бойтесь идущего века,
Будет, верьте мне, двадцать второй,
Магазин и фонарь, и аптека,
Обелиски над Лысой горой.
(Мамаев Курган и Лысая гора – 2 высоты Сталинграда)
***
И как пророк в сухой пустыне,
С надеждой глядя в небеса,
Почти оглохшая Россия
Внимает эти голоса.
В. Костров.
Нет, не оглохла, а скончалась,
Как было в жизни много раз,
И так же снова возрождалась,
И, не впуская в сердце жалость,
Сияла синью русских глаз.
Не раз тебя снимали с дыбы,
Колесовали упыри,
Но, помолившись до зари,
И, усмирив свой гневный крик,
Крестясь, шептала ты: - Спасибо.
По крохам собирала гущу,
Чтоб накормить своих детей,
И, чтобы день был не упущен
Трудилась яростнее, пуще,
Познав истоки скоростей,
И вновь твои трещали кости,
Стыдясь, вопил пустой живот,
Но, в стылый край, вбивая гвозди,
Скорбя и плача на погосте,
Всегда ты верила в народ!
В. Кострову
Греми, не греми, в том ли дело?!
Душа ваша, знаю, чиста,
Не важно, что время хотело,
Оно, как листва облетело,
Ведь истина мира проста.
Оставив могильные стелы,
Нам память отмерила срок,
И шумные злые метели,
Что груз двести быстро отпели,
Отметив нам пеплом висок.
Пусть строят дворцы ошалело,
Забыв и про совесть, и страх,
Душа их давно отлетела,
Не мучилась, так захотела,
Коль доллар царит на губах
Не знать бы вовек казнокрадства,
И деток Рублёвки б не знать,
Во имя незримого братства
мне хочется с вами обняться,
чтоб боль вашу сердцем принять.
Ты говоришь, что умираешь
На лавке, сидя у стрехи,
Что не хватает, видно, рая,
Что вяжут прежние грехи,
А я твои стихи читала,
Искала в них саму себя,
Хотелось всё начать сначала,
Чтоб встретить прежнего тебя,
Где над лампадами иконы
Рядком висели на стене
И, где советские законы
Сжигали старое во мне,
Как ворохи осенних листьев
Октябрь сжигает во дворах,
Не ельцинская свора лисья,
Селившая разор и страх.
Уйти б с тобой в страну иную,
Где будущность была в цвету,
Но кто сыграл ту шутку злую,
Коль я дороги не найду.
***
В. Кострову
Ты сказал, что от страшного века устал.
И ушёл, и писать, и дышать перестал.
Мне пока помогает аптека…
Вл. Соколову В Костров.
Вы боялись грядущего века,
Двадцать первый – суров и жесток,
Что не справится наша аптека,
Век загубит душевный росток,
Человечество, вдруг, очерствеет
Не от войн и страданий людских,
Новый век равнодушье навеет
И желанье излишеств мирских,
Сытый видит и слышит всё хуже,
И не чувствует, и не живёт,
Не ступает по солнышку в луже,
И по зернышку правды не ждёт,
Не сидит ночь безлунную в парке,
Не поёт под окошком в мороз,
Не целует так сочно и ярко,
Холод сердце пронижет насквозь.
Зря боялись остуды кромешной,
И не фанта в ней стала виной,
Любят так же отчаянно грешно,
И за родину встанут стеной.
Вы не бойтесь идущего века,
Будет, верьте мне, двадцать второй,
Магазин и фонарь, и аптека,
Обелиски над Лысой горой.
(Мамаев Курган и Лысая гора – 2 высоты Сталинграда)
***
И как пророк в сухой пустыне,
С надеждой глядя в небеса,
Почти оглохшая Россия
Внимает эти голоса.
В. Костров.
Нет, не оглохла, а скончалась,
Как было в жизни много раз,
И так же снова возрождалась,
И, не впуская в сердце жалость,
Сияла синью русских глаз.
Не раз тебя снимали с дыбы,
Колесовали упыри,
Но, помолившись до зари,
И, усмирив свой гневный крик,
Крестясь, шептала ты: - Спасибо.
По крохам собирала гущу,
Чтоб накормить своих детей,
И, чтобы день был не упущен
Трудилась яростнее, пуще,
Познав истоки скоростей,
И вновь твои трещали кости,
Стыдясь, вопил пустой живот,
Но, в стылый край, вбивая гвозди,
Скорбя и плача на погосте,
Всегда ты верила в народ!
В. Кострову
Греми, не греми, в том ли дело?!
Душа ваша, знаю, чиста,
Не важно, что время хотело,
Оно, как листва облетело,
Ведь истина мира проста.
Оставив могильные стелы,
Нам память отмерила срок,
И шумные злые метели,
Что груз двести быстро отпели,
Отметив нам пеплом висок.
Пусть строят дворцы ошалело,
Забыв и про совесть, и страх,
Душа их давно отлетела,
Не мучилась, так захотела,
Коль доллар царит на губах
Не знать бы вовек казнокрадства,
И деток Рублёвки б не знать,
Во имя незримого братства
мне хочется с вами обняться,
чтоб боль вашу сердцем принять.
Веронике Долиной
Знаю, что в жизни немало чудес,
Радости встреч и слова обещанья,
Пью с наслаждением влагу небес,
Слушаю голос, гитары звучанье,
Чувствую горечь тревожных разлук,
Нежность любви и страданье измены,
Пахнет святою надеждою луг,
Прежде незнавший в себе перемены.
Краски окутали четкость строки,
Словно заря прикоснулась к колосьям,
И перебор из под тонкой руки -
Рощи берёзовой разноголосье.
Дождик сентябрьский над полем прошёл,
И освежило лицо дуновеньем,
Пойте апрельскою светлой душой,
Вьгой январской пропойте мгновенье.
Бархатный голос по залу плывёт,
Чистые звуки гитары приятны,
Зритель на час восхищенно замрёт,
Частью души станет он безвозвратно.
* * *
Андрей Румянцев
ОСНОВА
Над стихами А.Ахматовой и О.Берггольц,
Знаю, что в жизни немало чудес,
Радости встреч и слова обещанья,
Пью с наслаждением влагу небес,
Слушаю голос, гитары звучанье,
Чувствую горечь тревожных разлук,
Нежность любви и страданье измены,
Пахнет святою надеждою луг,
Прежде незнавший в себе перемены.
Краски окутали четкость строки,
Словно заря прикоснулась к колосьям,
И перебор из под тонкой руки -
Рощи берёзовой разноголосье.
Дождик сентябрьский над полем прошёл,
И освежило лицо дуновеньем,
Пойте апрельскою светлой душой,
Вьгой январской пропойте мгновенье.
Бархатный голос по залу плывёт,
Чистые звуки гитары приятны,
Зритель на час восхищенно замрёт,
Частью души станет он безвозвратно.
Радости встреч и слова обещанья,
Пью с наслаждением влагу небес,
Слушаю голос, гитары звучанье,
Чувствую горечь тревожных разлук,
Нежность любви и страданье измены,
Пахнет святою надеждою луг,
Прежде незнавший в себе перемены.
Краски окутали четкость строки,
Словно заря прикоснулась к колосьям,
И перебор из под тонкой руки -
Рощи берёзовой разноголосье.
Дождик сентябрьский над полем прошёл,
И освежило лицо дуновеньем,
Пойте апрельскою светлой душой,
Вьгой январской пропойте мгновенье.
Бархатный голос по залу плывёт,
Чистые звуки гитары приятны,
Зритель на час восхищенно замрёт,
Частью души станет он безвозвратно.
написанными в конце тридцатых годов
У честного, точного слова,
Как это известно давно,
Одна лишь земная основа –
Страданье. И только оно.
Конечно, я помнил подспудно,
Что критикам разных мастей
Такая строка не подсудна,
Что кровью умыта моей.
Но всё же, читая, как внове,
Двух женщин святые стихи,
Я думал о страшной основе
Правдивой и честной строки.
* * *
ЛЮБИМЫЕ ПОЭТЫ
Александр ГОРОДНИЦКИЙ
В покаянии позднем для нас оправдания нету.
Мы шагали в строю и кричали злодеям "Ура!"
Виноваты Багрицкий, Светлов и другие поэты,
Что воспели убийство как высшую степень добра.
Виноват Маяковский, что пел революции оды
(И себя самого расстрелял он за это потом).
Я и сам их любил в те далекие школьные годы,
У безумной истории на повороте крутом.
И хоть сами они никого не убили ни разу,
Вспоминая о них, потому ощущаю я грусть,
Что расстрельные после подписывали приказы
Те, кто в детстве стихи их заучивали наизусть.
Не забыть и до смерти поэзии этой уроки.
Расходились круги по поверхности темных зыбей,
И наивных мальчишек учили звенящие строки:
"Если надо, солги", и еще: "Если надо, убей".
И опять вспоминаю я строки проклятые эти,
И с собою самим продолжаю немой разговор.
Тот, кто звал убивать, перед Богом в таком же ответе,
Как и тот конвоир, что уже передернул затвор.
* * *
Марк Луцкий
Разноцветье Якова Козловского
(из цикла венков сонетов, посвященным поэтам-воинам)
1
Рождённый в Истре, вырос он в столице,
Десятилетка, воинский призыв,
Соседство с Польшей, самый первый взрыв,
И первый бой на горестной границе.
А бой за боем долго будет длиться,
И рота бьётся за реки извив,
Про дни и ночи просто позабыв,
Никак нельзя с оружьем разлучиться.
«Ведь я до хрипа голос напрягал
И от земли, что минами изрыта,
Вновь для атаки роту отрывал,
Как будто бы железо от магнита». *
Чуть завершил двадцатую весну,
А из неё – на страшную войну.
___________________________________________
* Яков Козловский «Послание известному поэту»,
все цитаты приводятся по книге «Разноплеменная
молва» 1992
2
А из неё – на страшную войну.
Удел ребят, родившихся в двадцатых.
Таких, как все – задорных, веснушчатых,
Попавших под военную волну.
Познавших этой драмы глубину,
По существу, ни в чём не виноватых,
Для них – и пулемёты, и гранаты,
И вновь вопрос: «А завтра что хлебну?»
«Сон взрывала команда: «В ружьё!» –
Иль катили орудие в гору,
Одного я не ведал в ту пору –
Где находится сердце моё». *
Увидеть вновь небес голубизну …
Долг офицера – защищать страну,
_________________________________
* «Дома я ль иль в потоке людском …»
3
Долг офицера – защищать страну,
Хотя и сам – пока ещё мальчишка,
И жизненного опыта не лишку,
И слышишь лишь военную струну.
Она звучит, когда идёшь ко дну
На переправе. И стреляют с вышки.
А ты глотаешь грязные ледышки,
Воды и неба видя пелену.
«Дымилась даль на горизонте,
Когда исполненные веры,
Мы познакомились на фронте,
Молоденькие офицеры». *
Их многих миновала счастья птица,
У всех друзей – пороховые лица.
______________________________
* «Кайсыну Кулиеву», первый катрен
4
У всех друзей – пороховые лица.
В такой лихой войне каким им быть?
Окопы в рост и аппарели рыть –
Хотите жить? Извольте потрудиться!
В жестокой битве не пришлось лениться,
Всевышний постарался сохранить?
Им, атеистам, не к лицу просить,
Одно лишь знали – надо честно биться.
«И вслух не поминали Бога,
Хоть в Сталинграде уцелели,
Нам было меньше лет немного,
Чем Лермонтову в день дуэли». *
Их ратный труд окупится сторицей,
Года войны проходят вереницей.
_______________________________
* «Кайсыну Кулиеву», второй катрен
5
Года войны проходят вереницей,
Но хочется на мирное взглянуть,
А впереди пока военный путь,
Омытый кровью нашей, не водицей.
Но это может дальше не продлиться,
Кто в этом знает точно что-нибудь?
И ты в любой момент готовым будь
Земле родной навеки поклониться.
«Мы вдоволь на войне намучась,
Еще не ведали в дни эти,
Какая выпадет нам участь
И что нас ждёт на белом свете …»
Гремит война и, подойдя к окну,
Едва ль придётся слышать тишину.
_________________________________
* «Кайсыну Кулиеву», катрен седьмой
6
Едва ль придётся слышать тишину.
Когда идёшь по фронтовым дорогам
В чужую даль с домашнего порога,
Обязан взять любую крутизну.
Бывает, удивишься: «Ну и ну!
Старался, но прошёл совсем немного,
И, вроде, путь сложился чуть полого,
Да не учли огонь и кривизну ...
«День на смену полумраку
Занялся, кровоточа.
Лейтенант хрипит: – В атаку! –
Автомат сорвав с плеча». *
… Попробуйте, внимая крикуну,
Творить стихи, подобно колдуну.
___________________________________________
* «Баллада о преодолении земного
притяжения …», первый катрен
7
Творить стихи, подобно колдуну,
Он начинал в клокочущем горниле,
Уже лежат твои друзья в могиле,
А ты – живой и чувствуешь вину.
Случалось, что в горячечном плену
В твоей душе их вдовы голосили.
Но ты – солдат и остаёшься в силе,
И обещаешь: «Я свой долг верну …»
«Жив останешься — две меры
Выдаст водки старшина.
А убитым — из фанеры
Всем на круг — звезда одна». *
Война, война, ты будешь долго сниться,
А остальному есть где приложиться.
________________________________
* «Баллада о преодолении земного
притяжения …», пятый катрен
8
А остальному есть где приложиться.
Пришёл в Литинститут на костылях,
И продолжалась жизнь твоя в стихах,
И переводам довелось учиться.
И песнь Расула продолжает литься
Не на кавказских дорогих горах,
А на российских волжских берегах,
Её поют в кокошниках девицы.
«Там, где вознёсся небу сопредельный
Кавказ, достойный славы и любви
Не из твоей ли песни колыбельной
Берут начало все стихи мои?» *
Расул и Яков вместе целый год,
Лавина дел и новый перевод …
______________________________
* Расул Гамзатов «Автограф на книге,
которую я подарил маме», перевод
с аварского Якова Козловского
9
Лавина дел и новый перевод …
И юмор заблистал средь разноцветья,
Искрят слова, включая междометья –
Весёлый составляя хоровод.
Стихи вошли в привычный обиход,
Завидным обладают долголетьем
Кто знает, могут одолеть столетья,
Когда они уже пошли в народ.
«Твои стихи прочли мы новые
И к мысли вдруг пришли одной,
Что их на головы здоровые
Свалил ты с головы больной». *
Кавказский юмор все тогда познали,
Аварский стих звучит в Колонном зале.
___________________________________
* Р. Гамзатов «Надпись на книге поэта,
который вечно жалуется на головную боль»,
перевод с аварского Якова Козловского
10
Аварский стих звучит в Колонном зале,
А вместе с ним поёт и весь Кавказ:
Азербайджан и Грузия средь нас,
Армении стихи тут услыхали.
Работают все дружно, не устали,
Показывают высочайший класс,
Всегда имеют творческий запас,
В Баку ли, Ереване и Цхинвали.
«Парень песню поёт о девчонке одной,
А в кого он влюблен – отгадай.
Вместо имени милой звучит под луной:
«Долалай, Долалай, Долалай». *
Естественно, что те стихи узнали
Не только Дагестан, иные дали,
_________________________________________
* Песня «Долалай» автор текст – аварец
Расул Гамзатов, музыки – азербайджанец Полад
Бюль-Бюль оглы, перевод на русский – еврей
Яков Козловский.
11
Не только Дагестан, иные дали,
И Азия пред Яковом встаёт
И вот Алтай в поэзии живёт,
Катунь с Белухой многое познали.
Народные легенды воскресали,
Бронтой Бедюров свой рассказ ведёт, *
Алтайская природа в нём цветёт,
И сон, и явь в поэзию попали.
«Как увидишь во сне старика,
Что тебе преподносит быка
Иль корову привёл ко двору,
Знай заранее: это к добру». **
Народный эпос снова оживёт,
Туркменистан запущен в оборот.
________________________________
* Народный писатель Республики Алтай
** Бронтой Бедюров «О добрых и дурных
снах», перевод с алтайского Якова Козловского
12
Туркменистан запущен в оборот …
И сотни книг сотворены поэтом,
Любовью переводчика согреты
Все жанры мира – от баллад до од.
Эротики фольклор его влечёт,
На остроумье не наложишь вето.
Озарены стихи особым светом,
Но в пошлости никто не упрекнёт.
«И кому какое дело
Под луной, где рек полно,
То, что оба наши тела
Вновь сливаются в одно». *
Козловский – автор множества затей.
Особняком – шедевры для детей,
__________________________________
* «Речка я, а ты – приток …», из
болгарского фольклора
13
Особняком – шедевры для детей,
Забавные загадки, каламбуры.
Гроссмейстер он такой литературы,
Бесценный дар! Почётный корифей.
Средь тех стихов живётся веселей,
Подмечено талантливо с натуры,
Калейдоскоп! Меняются фигуры,
Хотя звучат похоже, ей-же-ей!
«Рыбачьей удалью блесну
И в речке возле леса
Поймаю щуку на блесну.
Эх, выдержала б леса!» *
Всех описал – здесь лев и рак, и змей ...
Воистину, он маг и чародей.
______________________________________
* «Рыбак» из книги «Весёлые приключения –
не только для развлечения» 1971
14
Воистину, он маг и чародей.
И, безусловно, мастер на все руки:
Мог извлекать божественные звуки
Из языков почти планеты всей.
И радовать твореньями друзей,
Изобретая искромётно шутки,
Сияют, словно блёстки, прибаутки,
Судьба их – долго жить среди людей.
«Ты меня расспросами не мучай,
Быть могла ль моя судьба иной?
Как у всех — она лишь частный случай,
Предопределённый под луной». *
Такой судьбою Яков мог гордиться …
Рождённый в Истре, вырос он в столице,
____________________________________
* «Ты меня расспросами не мучай …»
Магистрал (акростих)
Рождённый в Истре, вырос он в столице,
А из неё – на страшную войну.
Долг офицера – защищать страну,
У всех друзей – пороховые лица.
Года войны проходят вереницей,
Едва ль придётся слышать тишину.
Творить стихи, подобно колдуну,
А остальному есть где приложиться.
Лавина дел и новый перевод …
Аварский стих звучит в Колонном зале.
Не только Дагестан, иные дали,
Туркменистан запущен в оборот …
Особняком – шедевры для детей,
Воистину, он маг и чародей.
* * *
Марк Луцкий
Гуманизм Юрия Левитанского
(из цикла венков сонетов, посвященных поэтам-воинам)
1
Юдоль – солдат, поэт и гуманист,
Из тех, кто был нещадно бит войною,
Она вошла в его служебный лист,
И много лет водила за собою.
Он – пулемётчик, позже – журналист,
Всегда готовый к драке или бою,
Но говорит: «Я ненависть не скрою
К войне» – хотя в душе отнюдь не пацифист.
«Ну что с того, что я там был.
В том грозном быть или не быть.
Я это всё уже забыл,
я это всё хочу забыть». *
А это всё же просто незабвенно –
Дороги, что от Праги до Мукдена, 1
____________________________
* Юрий Левитанский «Ну что с того,
что я там был …»
2
Дороги, что от Праги до Мукдена …
Сначала он Москву оборонял,
Налёт воздушный, и звучит сирена,
И Белорусский рядышком вокзал.
Садовое кольцо молчит смиренно,
Попало в оборонный ареал.
ОМСБОНу * маршал строго приказал
Держать участок храбро, дерзновенно.
«С той поры ты не стар и не молод,
и не будет ни вёсен, ни лет, ни дождя,
ни восхода.
Остаётся навеки один нескончаемый холод –
Продолженье далёкой зимы сорок первого года». **
Разрывы бомб, пожар, снарядный свист …
Любой из этих всех путей тернист.
_________________________
* ОМСБОН – Отдельный мотострелковый
батальон особого назначения
** «Моему ровеснику»
3
Любой из этих всех путей тернист.
А было их тогда у них немало:
Москва … Калинин … Пулемёт речист
Среди руин и ржавого металла.
А далее – всё то же, гром басист,
Фронты, немало их перебывало,
Война везде показывает жало,
Ей всё равно, что лётчик, что танкист.
«Я меткой пули недолёт.
Я лёд кровавый в январе.
Я крепко впаян в этот лёд.
Я в нём как мушка в янтаре». *
Пути войны и нет у них обмена,
Едва ль на них найдётся Иппокрена.
___________________________
* «Ну что с того, что я там был …»
4
Едва ль на них найдётся Иппокрена,
Источник замечательных стихов.
Война и фронт – совсем иная сцена,
Не всякий выступать на ней готов.
Она тебя сжигает, как геенна,
И в летний зной, в мороз, среди снегов.
Могилы повсеместно без гробов,
Не избежать злокозненного плена.
«Они лежали здесь, покойники,
отвоевавшие своё,
её солдаты и полковники,
и даже маршалы её». *
Печаль и боль. Пусть будет баталист
В своих твореньях искренен и чист,
_________________________
* «Сон о рояле»
5
В своих твореньях искренен и чист,
Он больше о войне писать не хочет.
Философ и активный альтруист
Предпочитает день кромешной ночи.
Он индивидуален, как солист,
Отличен от других и очень точен,
Идеей гуманизма озабочен
И предан ей как истый фаталист.
«И все же я учился жить.
Отличник — нет, не получился.
Зато терпенью научился,
уменью жить и не тужить». *
Хотя всё в нашем мире смертно, тленно,
Исканья, выбор – как это бесценно!
__________________________________
* «Я медленно учился жить …»
6
Исканья, выбор – как это бесценно
Среди мирской обычной суеты
Пред Идеалом преклонить колена.
Искать и выбирать обязан ты.
И выбор происходит непременно,
Являясь как прелюдия мечты,
И в целом эти принципы просты,
Поэт сказал об этом вдохновенно:
«Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя».
Свобода, выбор – всё это священно,
Талант могуч и выглядит степенно,
7
Талант могуч и выглядит степенно,
Художник должен выписать людей,
Схватить черты и воссоздать мгновенно
Да так, чтоб все сказали: «Чародей!»
Иной подход, и сам себе – измена,
Но оживут добряк и гад-злодей,
Спаситель-ангел, ушлый прохиндей
Свой облик создают попеременно.
«Отсветы. Отблески. Блики.
Пятна белил и гуаши.
Наши безгрешные лики.
Лица греховные наши ...» *
Искусный перед нами портретист,
А голос ясен, точен, серебрист.
______________________________
* «Бесстрашный художник»
8
А голос ясен, точен, серебрист.
И очень важно, что своеобычный,
С самим собою острый полемист,
С манерою письма иной, отличной.
Без разных «измов», но и не статист,
С позицией своей, сугубо личной,
Но твёрдой и совсем не эластичной,
Он – кто угодно, но не конформист.
«— Не желаю, не хочу
повторять и повторяться.
Как иголка затеряться
в этом мире не хочу». *
Закономерен кредовый итог,
Научен жизнью, тяжестью дорог,
______________________________
* «Кто-то так уже писал …»
9
Научен жизнью, тяжестью дорог,
Германии, Маньчжурии и прочих,
Узнав Европу, Запад и Восток,
Вступает в мир, в число его рабочих.
Сибирь, Иркутск – теперь его исток.
Он из породы к творчеству охочих,
Девиз: «Дерзай! Вовсю слова ворочай!»
И, как всегда, он сам себе пророк.
«В ожидании дел невиданных
из чужой страны
в сапогах, под Берлином выданных,
я пришел с войны». *
Самооценки часто ироничны,
Стихи его мудры, философичны,
__________________________
* «Белый снег»
10
Стихи его мудры, философичны,
Поэт частенько пишет о себе,
Но жизнь других ему небезразлична,
Та, что живёт в заботах и мольбе.
Тут всё оригинально, не вторично,
Испытано на собственной судьбе,
Закалено в отчаянной борьбе,
И это для него симптоматично.
«И вновь меня требует совесть на праведный суд.
И речь тут о сути самой и природе греха.
И все адвокаты на свете меня не спасут –
я сам отвечаю за грешную душу стиха». *
И души их, поверьте нам, приличны,
Конкретны, вместе с тем, сугубо личны,
____________________________
* «Попытка оправданья»
11
Конкретны, вместе с тем, сугубо личны,
Стихи исповедальны, в этом суть,
Бывают и трагичны и лиричны,
И, значит, автор выбрал верный путь.
Творения спокойны, мелодичны,
Они теплом переполняют грудь.
Подобное попробуй позабудь,
Всё подано весомо, лаконично.
«Я поздно научился жить.
С былою ленью разлучился.
Да правда ли, что научился,
как надо, научился жить?» *
Как разделить его раздумья впрок?
Об этом автор всем поведать смог.
________________________
* «Я медленно учился жить …»
12
Об этом автор всем поведать смог.
О близости к своим делам душевным:
– Войди сюда, переступи порог,
Отринь всё, что считаешь повседневным.
Войди в стихов торжественный поток,
С отличием и грустным, и напевным
В вечерний час и в светлый час полдневный
Понаблюдай, как кружится листок.
«Люблю осеннюю Москву
в ее убранстве светлом,
когда утрами жгут листву,
опавшую под ветром». *
Хотя стихи так излучают свет,
Маэстро перенёс немало бед,
______________________
* «Люблю осеннюю Москву …»
13
Маэстро перенёс немало бед,
Не каждому такое выпадает.
Война, она не только из побед,
Забыть бы всё! Но он не забывает …
И сердце откликается в ответ,
Чужую боль как собственную знает,
Он – гуманист и всё воспринимает,
Борясь за справедливость столько лет.
«Ты дождешься многих бед,
ты погибнешь в этих спорах —
ты не выдумаешь порох,
а создашь велосипед!..» *
Поборник правды и апологет,
У многих в сердце он оставил след.
_________________________
* «Кто-то так уже писал …»
14
У многих в сердце он оставил след
Кому стихами, а кому-то – песней,
Кому – в поэзию вручил билет
И покорил эстетикой словесной.
Он строг к себе, успокоенья нет,
И недоволен критикою лестной,
И хоть слова его звучат прелестно,
Самодовольству объявил запрет.
«Сколько нужных слов я не сказал,
сколько их, ненужных, обронил.
Сколько я стихов не написал.
Сколько их до срока схоронил» *.
А он ещё – прозаик, пародист …
Юдоль – солдат, поэт и гуманист.
_________________________
* «Всего и надо, что вглядеться …»
Магистрал (акростих)
Юдоль – солдат, поэт и гуманист,
Дороги, что от Праги до Мукдена,
Любой из этих всех путей тернист.
Едва ль на них найдётся Иппокрена.
В своих твореньях искренен и чист,
Исканья, выбор – как это бесценно!
Талант могуч и выглядит степенно,
А голос ясен, точен, серебрист.
Научен жизнью, тяжестью дорог,
Стихи его мудры, философичны,
Конкретны, вместе с тем, сугубо личны,
Об этом автор всем поведать смог.
Маэстро перенёс немало бед,
У многих в сердце он оставил след.
* * *
Марк Луцкий
Приключения Джека Алтаузена
(из цикла венков сонетов, посвященных поэтам-воинам)
1
Попробуй угадать – откуда Джек?
На прииске родился мальчик Яша,
Абориген! Но ссыльный человек,
Старатель Моисей – его папаша.
Фартовый прииск между парой рек,
Обычный быт, где пища – щи да каша,
Сестрёнка Сара и подружка Маша,
Два брата и подкова – оберег.
«Холодные луны, песчаные дюны.
Когда-то нам снились шотландские шхуны...
Когда-то, бывало, мечта нас кидала
От мыса Надежды до гребней Байкала». *
… Без матери так тяжко в этом мире, **
Отец – еврей, из жителей Сибири.
______________________________
* Джек Алтаузен «Детство» 1929
** Жена Моисея ушла из семьи, оставив
его с четырьмя детьми
2
Отец – еврей, из жителей Сибири,
Сумел детишкам что-то преподать:
Тут Пушкин и «Бородино», и «Мцыри»,
И Пётр Ершов, тобольская тетрадь.
Видать, отец глядел на вещи шире,
Сошла, наверно, Божья благодать,
Он научил детей своих мечтать,
Да, сам-один, а их при нём – четыре.
«По ночам твой лёгкий стан мне снится,
Без тебя вокруг такая мгла.
По ошибке ты, моя синица,
Вместо моря сердце подожгла». *
Где чувств набрал он, из каких сусек?
Эвристике не разобрать вовек.
__________________________
* «Девушке» 1936
3
Эвристике не разобрать вовек.
Три сына было в доме Моисея,
А время быстро продолжало бег,
И вот – война пришла, всем горе сея.
Пал Николай, прожив короткий век,
И младший Игорь, жизни не жалея.
Остался средний – Джек, что не робея,
На Харьков шёл, как повелел Стратег.
«Я шел в атаку, твердо шел туда,
Где непрерывно выстрелы звучали,
Чтоб на земле фашисты никогда
С игрушками детей не разлучали». *
Но мы вопрос об имени забыли,
Такие имена тогда не жили.
__________________________
* «Родина смотрела на меня» 1941
4
Такие имена тогда не жили.
Восточная Сибирь, рабочий люд.
Здесь золото в трудах великих мыли,
Россия укрепляла свой статут.
Зимою над тайгой метели выли,
А летом – адский, непосильный труд.
Вот русский, вот еврей, эвен, якут,
Монголы и буряты тут же были.
«Вот пёс пёстроногий,
Вот дом мой отлогий,
Как колокол смолкший,
Лежит при дороге». *
Как Джек попал сюда, на ленский брег?
У ссыльных под ногами жёсткий снег,
_______________________________
* «Детство» 1929
5
У ссыльных под ногами жёсткий снег,
Пути Господни неисповедимы,
Кто в шахте пробивает узкий штрек,
Кому-то снится самородок мнимый.
Возможно, фарт доставит крупный чек,
Недолго будет он в суме хранимым,
Возникнет на пути кабак любимый,
И снова ждёт под соснами ночлег.
«Помёт воробьиный
Засыпал рябины.
Друзей не нашёл я
У волчьей ложбины». *
Вот так всю жизнь свою они влачили,
А сколько их, что в тех снегах застыли,
_________________________
* «Детство» 1929
6
А сколько их, что в тех снегах застыли.
Сибирский обжигающий мороз!
Кто отправлял людей на смерть, не ты ли?
Принять судьбу столь многим довелось.
А Яков грезил судьбами флотилий,
Он был в плену тех романтичных грёз,
Свершилось чудо, видно, рок занёс,
Туда, где мысли мальчика бродили.
«Холодные луны,
Рябые буруны.
Опять мне приснились
Шотландские шхуны ... » *
И в голове с легендою о Тиле **
Ложатся рядом небыли и были,
________________________________
* «Детство» 1929
** Тиль Уленшпигель
7
Ложатся рядом небыли и были,
Вот городок ближайший – Бодайбо,
Здесь горы, тонны золота намыли,
И это, прямо скажем, не слабо.
Легенды о богатствах этих плыли
Над сопками, где небо голубо,
Там свечи елей – темное жабо –
По берегам озер красу раскрыли.
«Покажите, зверобои, чем еще Сибирь богата.
Не одним Сибирь богата тяжким золотом снопов;
Рудами богаты горы, широки лесов просторы.
А еще Сибирь богата синей проседью песцов». *
Зверьё Сибири вновь берёт разбег,
Таёжный лес, ты ноевый ковчег.
_______________________________
* «Покажите, зверобои …»
8
Таёжный лес, ты ноевый ковчег.
Где каждой твари больше, чем у Ноя:
Старатель и охотник, дровосек,
Проходчик, обожающий спиртное.
Конторщик и его английский стек,
И «Лена Голдфилдс»» – дело золотое,
И страх властей: «Да что же здесь такое!»
И жуть расстрела – армии набег. *
«Может, молодость нас бережет,
Может, в бурях мы не огрубели,
Потому что у нас с колыбели
Чувство родины в сердце живет». **
Кому-то – ад, кому-то – сущий рай,
А отрок отправляется в Китай.
_____________________
* Ленский расстрел рабочих-забастовщиков
17 апреля 1912 года правительственными
войсками.
** «Можешь землю до края пройти…» 1940
9
А отрок отправляется в Китай.
Сестра отца его к себе забрала,
О, сколько нового! В себя вбирай!
Но оказалось, что Китая мало.
Казалось бы – велик, могуч Шанхай
Но странствий страсть на Якове лежала,
И жаждала далёкого причала,
И этой жажды – только отбавляй.
«За экватором на корабле,
Возле пальмы под Венесуэлой
Будешь бредить берёзкою белой,
Что растёт на смоленской земле». *
Познать чужие земли не терпелось!
У тётки жить, однако, не хотелось,
_________________________
* «Можешь землю до края пройти…» 1940
10
У тётки жить, однако, не хотелось,
И он бежит служить на пароход,
Кокосы, пальмы, зрелых манго спелость,
И имя Джек – так капитан зовёт.
Остался Джеком …Многое приелось.
А время всё расставит наперёд,
И мысль о возвращении живёт,
И вот – Чита! Россия! – в сердце пелось.
«На ресницы слеза набежит,
Если вспомнить на дальней чужбине
О родимой ирбитской рябине,
Что от ветра стыдливо дрожит». *
Романтика морей, причалов прелесть,
Звала куда-то безрассудно смелость.
______________________
* «Можешь землю до края пройти…» 1940
11
Звала куда-то безрассудно смелость,
А оказалось, лучше дома ширь,
И страсть работы, просто оголтелость,
Источник вдохновения – Сибирь!
Наставник Уткин: «К чёрту устарелость,
Ты понапрасну чувства не транжирь,
Самодовольство – самый злой упырь,
И прочь гони банальных мыслей прелость!»
«Вглядитесь в нас, в глаза любой расцветки.
В добытчиков угля, руды, сырца.
Приставьте ухо к первой пятилетке:
Там наши в ней пульсируют сердца». *
И на досуге только вспоминай:
Его влекли Гонконг, далёкий край.
_________________________
* «Первое поколение» 1932
12
Его влекли Гонконг, далёкий край,
А он в плеяде молодых поэтов
Приветствует стихами труд и май,
Ведёт борьбу с программами эстетов.
В литературу веский вносит пай
Единолично, иногда дуэтом, *
Но ярко и свежо звучат при этом
Стихи. Читай, внимай, запоминай!
«Ты была мне послана судьбою,
Как звезда возникла на пути.
Я хотел бы рядышком с тобою
Вдоль прибоя берегом пройти». *
И снова продолжать писать готов,
Нашёлся опыт средь тугих ветров.
______________________
* Поэт иногда писал в соавторстве с
Борисом Ковыневым и Александром Ясным
** «Желание» 1938
13
Нашёлся опыт средь тугих ветров,
Ветра войны – он с первых дней на фронте,
Среди солдат измученных полков,
На вздыбленном, горящем горизонте.
Раздавлен танком … Нету горше слов.
Стихи в планшете хрупкие, не троньте,
Венок поэту написать позвольте,
Увы, сюжет для воина не нов.
«Обо всём мне жена написала
И в конце, вместо слов о любви,
Вместо «крепко целую», стояло:
«Ты смотри, мой хороший, живи!» *
Газета фронтовая из столбцов –
Успешное вместилище стихов.
_________________________
* «Письмо от жены» 1941
14
Успешное вместилище стихов
Отнюдь не для военных похоронок.
Пришло письмо в Иркутск под отчий кров,
Последний сын, воспитанный с пелёнок.
Схватило сердце, не порвать оков,
Барьер от смерти бесконечно тонок,
Устал старик от похоронных гонок,
Вздохнул последний раз, и был таков …
«Есть у нас свои законы жизни:
Мы в боях фашистских бьём зверей,
Кто изменит в этот час Отчизне —
Ждёт того проклятье матерей». *
Пал замертво, не закрывая век …
Попробуй угадать – откуда Джек!
________________________
* «Мать» 1941
Магистрал (акростих)
Попробуй угадать – откуда Джек!
Отец – еврей, из жителей Сибири.
Эвристике не разобрать вовек –
Такие имена тогда не жили.
У ссыльных под ногами жёсткий снег,
А сколько их, что в тех снегах застыли,
Ложатся рядом небыли и были,
Таёжный лес, ты ноевый ковчег.
А отрок отправляется в Китай.
У тётки жить, однако, не хотелось,
Звала куда-то безрассудно смелость
Его влекли Гонконг, далёкий край.
Нашёлся опыт средь тугих ветров –
Успешное вместилище стихов.
* * *
Марк Луцкий
Пути Сельвинского
(из цикла венков сонетов, посвященным поэтам серебряного века)
1
Крым для него – основа из основ,
Бондарный переулок, Симферополь,
Красивый особняк среди домов,
Здесь маленький Илюша важно топал.
А дом о многом рассказать готов:
– Вон там когда-то рос громадный тополь …
Сельвинский – автор стихотворных тропов,
Первопроходец к множеству ходов ...
«Здесь мои сестры под утренним бризом
С купаленных свай обдирали улов
И дома с лавровым листом и рисом
Из мидий варили плов». *
О городе – особая забота:
Первоначало, явный пункт отсчёта,
__________________________________
* Илья Сельвинский «Крым» 1944
2
Первоначало, явный пункт отсчёта,
У каждого такой есть уголок,
Отсюда открываются ворота,
Отсюда устремляется поток.
А далее звучит иная нота
Для тех, кто сам извлечь, исполнить смог,
Кого-то одарит концерт-итог,
Но требуется адова работа.
«И затем ещё одно, пожалуй,
Хочется сказать мне иногда!
Красота берёт своё начало
В одухотворённости труда!». *
А дал ему источник нот и слов
Евпаторийский подростковый кров,
______________________________
* «Труд. Философский эскиз» 1946
3
Евпаторийский подростковый кров …
Морской залив, чьё имя – Каламитский …
Смешенье самых разных языков …
Крымчакский паренёк Илья Сельвинский …
Здесь становленье в прошлое мостов …
Особенный песок – евпаторийский …
И стиль построек греко-византийский …
И свежее дыхание веков …
«На скамейке звездного бульвара
Я сижу, как демон, одинок.
Каждая смеющаяся пара
Для меня — отравленный клинок». *
Увидит ли приметливое фото
Рождение отважного полёта?
______________________________
* «На скамейке бульвара» 1920
4
Рождение отважного полёта,
Который одолеет только смерть.
Услышат и Таймыр, и Миннесота,
Как может он стихами прозвенеть.
Не фанатизм идальго Дон Кихота,
Над ним повисла творческая плеть.
Он может в жизни всё преодолеть
Своим трудом, не посторонний кто-то.
«А отсюда очень важный вывод!
Труд – основа нравственности всей.
Труженик душою не фальшивит,
Спекулянт же вечно фарисей». *
Сей труженик задорен и здоров,
Вокруг морская ширь без берегов,
____________________________
* «Труд. Философский эскиз» 1946
5
Вокруг морская ширь без берегов,
А он увидит очень много ширей,
Узнает жизни трёх материков
И станет эрудитом в этом мире.
А начиналось с крымских рыбаков,
Шаланд под парусом иль на буксире,
Что жили в очень зыбком балансире
Промеж штормов и безутешных вдов.
«Над морем шла канонада,
Неся разоренье и крах,
А смерчи, как колоннада,
Стояли в прожекторах». *
Упорный труд, не требуется льгота,
О ней в стихах солиднейшая квота,
_________________________
* «Тайфун 20 –34» 1934
6
О ней в стихах солиднейшая квота,
Давно сказал: «Себе пощады нет!»
Стремится в бесконечность асимптота,
Туда ж стремится истинный поэт.
И раздаются перед ним тенёта,
В конце тоннеля еле брезжит свет,
И вот уже намечен силуэт
И чудо! – есть портрет вполоборота!
«И в этой дымке шоколадно-зыбкой,
В живом пятне меж мёртвых папирос
Почудилась дрожащая улыбка
И слово, что ещё не родилось» *
Дана поэту веская щедрота –
Причал и дом поэта-патриота,
_______________________________
* «Вы забежали к нам накоротке …» 1960
7
Причал и дом поэта-патриота –
Огромная, великая страна,
Идущая на смертный бой пехота,
Что героизмом внутренним полна.
Её враги дождутся эшафота,
Она и музой и стихом сильна,
Порою песня яростью грозна,
Важнее авиации и флота.
«Люблю великий русский стих,
Не всеми понятый, однако,
И всех учителей своих –
От Пушкина до Пастернака». *
Собрание его живых стихов –
Ристалище для будущих боёв.
____________________________
* «России» 1942
8
Ристалище для будущих боёв,
А их ему досталось полной мерой.
В течение столь непростых годов
Вооружен был убеждённой верой.
Он с юных лет был именно таков,
Воспитанный бойцовской атмосферой.
И, если даже рисковал карьерой,
Сопротивлялся мнению врагов.
«Мы все правдивы. Но в иные дни
Считаем правду не совсем удобной,
Бестактной, старомодной, допотопной -
И гаснут в сердце искры и огни...» *
Писал в журнал и альманах, в газету –
Отлично он уже известен свету
__________________________
* «Сонет. Воспитанный разнообразным
чтивом …» 1955
9
Отлично он уже известен свету
Разнообразьем, он – универсал.
Поэме, эпиграмме и сонету
Своё вниманье Мастер отдавал.
Творения его не канут в Лету –
«Пушторг» и улялаевский накал,
Прекрасно обороты набирал,
Хвала и драматургу, и поэту.
«Поэзия! Ты – служба крови!
Так перелей себя в других
Во имя жизни и здоровья
Твоих сограждан дорогих». *
Во многих ситуациях – герой
Харизма крепко схвачена Ильёй,
________________________________
* «Поэзия» 1941
10
Харизма крепко схвачена Ильёй,
Он по природе – превосходный лидер,
Друзей своих ведущий за собой:
Багрицкий, Луговской, Адуев, Инбер …
Текут произведения рекой,
Различие шрифтов, форзацев, литер,
Конструктивизм из памяти он вытер –
Уменье управления собой.
«Поэзия! Не ради славы,
Чью верность трудно уберечь,
Ты утверждаешь величаво
Свою взволнованную речь». *
И возрастает шедевральный слой,
Оркестр творца плывёт над всей землёй.
__________________________
* «Поэзия» 1941
11
Оркестр творца плывёт над всей землёй,
От Лондона, Парижа до Чукотки,
Порою слышен барабанный бой,
Отчётливы валторны и трещотки.
И чувствуются пушки за спиной
И звуки канонады этой чётки,
Военные перебирая чётки,
Страна воздвигла щит перед тобой.
«Сама как русская природа,
Душа народа моего –
Она пригреет и урода,
Как птицу выходит его …» *
Поэт на всём свою оставит мету,
Да вот беда – сам Кремль зовёт к ответу.
___________________________
* «Кого баюкала Россия» 1943
12
Да вот беда – сам Кремль зовёт к ответу.
И Маленков вести дознанье рад:
«Так кто урод?! Скажи! Сживём со свету! *
Уж мы тебе такой устроим ад!
Центральному известно Комитету,
О чём враги по злобе говорят!»
Взбешённый Секретарь суровит взгляд:
«Посадим на тюремную диету!»
«Глубинным стоном отзовётся драма,
Где родина, отечество, страна;
А как зудит раскаянье упрямо!
А ревность? M-м... Как эта боль слышна». **
Дают понять ему в который раз:
«Центральный Комитет – для всех указ!»
_______________________________
* В Кремле решили, что в стихотворении
«Кого баюкала Россия» под видом урода
подразумевается рябой и сухорукий И. Сталин.
** «Сонет. Душевные страдания как гамма …» 1951
13
Центральный Комитет – для всех указ,
Всё подравняет точно по ранжиру,
У партии особый глаз-алмаз,
Всевидящий! Как должно командиру!
А командир обязан дать приказ,
Он действует подобно нивелиру,
Клеймит драматургию и сатиру,
Ему подвластны Клио и Пегас.
«Обыватель верит моде:
Кто в рекламе, тот и витязь.
Сорок фото на комоде:
«Прорицатель», «Ясновидец»!» *
Над всем царит густой партийный бас,
Устал терпеть инструкции Парнас ...
14
Устал терпеть инструкции Парнас …
А что поделать? Всюду – диктатура,
Куда ни глянь –и в профиль и анфас,
Свирепствует жестокая цензура.
Не дремлет око – всюду, всякий час
И под прицелом вся литература,
И множится стократ макулатура,
Что пишется рабами на заказ.
«Я испытал и славу, и бесславье,
Я пережил и войны, и любовь:
Со мной играли в кости югославы,
Мне песни пел чукотский зверолов». *
Крымчак он, не из племени рабов,
Крым для него – основа из основ,
______________________
* «Сонет. Я испытал и славу, и бесславье …» 1958
Магистрал (акростих)
Крым для него – основа из основ,
Первоначало, явный пункт отсчёта,
Евпаторийский подростковый кров,
Рождение отважного полёта.
Вокруг морская ширь без берегов,
О ней в стихах солиднейшая квота,
Причал и дом поэта-патриота,
Ристалище для будущих боёв.
Отлично он уже известен свету
Харизма крепко схвачена Ильёй,
Оркестр творца плывёт над всей землёй,
Да вот беда – сам Кремль зовёт к ответу.
Центральный Комитет – для всех указ,
Устал терпеть инструкции Парнас ...
* * *
Илья Будницкий
Юзу Алешковскому
Так набежавшая волна выносит на берег окурок,
На нем чужие письмена, и словно в старой феске турок,
Так напомажен инфильтрат, что яд водою не размыло,
А в море не было регат, и ничего со дна не всплыло! –
Откуда, странник голубой? Прекраснодушный, чечевичный,
Не уничтоженный судьбой, потомок викингов безличный,
Ты свыше был, да вышел вон и чужд природного сиротства,
Скорее нестерильный клон, чем Каин в жажде первородства, –
Тебя не назову я «брат», при всей фаллической оправе,
Ты не помадой виноват, и я не богоравный равви, –
Но ты не нужен на земле, водой отвергнут, небом вынут,
И сотни ли, десятки лье напрасно двигался, покинут.
Ни мой рассеянный собрат тебя не тронет, мучим жаждой,
Ни сыщик, ни другой пират не алчет жалкой крови влажной,
Но там… В Вирджинии, в Раю… распалась связь, сотлен соцветий,
Как будто здесь, в чужом краю, остановился бег столетий.
* * *
Илья Будницкий
Бахыту Кенжееву
На заправке буксует машина,
У стекла ядовитая муть,
На другом полушарье ундина
У фонтана осталась вздремнуть. –
Что ей прописи штата Невада,
Глянец лаковый белых широт! –
Бестелесна пора снегопада,
Усыпальница хвойных пород.
Мудрецы запивают кефиром
Самогона высокую взвесь, –
Командором ли днесь, командиром –
Оживи онемелую весь,
Не прощая себя, не прощаясь,
Протяни мимо сумерек кисть. –
Вот и облако тает, меняясь, –
Беспричинно дыши, веселись.
Это дети тиранят ограду,
Это падает, катится плод,
И амброзия тянется к яду,
И буксует в грязи пешеход –
Потому что чужие дороги
Не нужны, впереди – переход. –
Перечеркнута пропись эклоги, –
Еще день. Еще час. Еще год.
Таракан к стеклу прижался
И глядит, едва дыша…
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа…
Н. Олейников, «Таракан»
Любил человек насекомых –
Жучков, тараканов любил,
Казалось, ну что тут плохого?
Но власти он не угодил.
Не славил он наши успехи,
В фанфары, в литавры не бил,
И тем нашей власти помехи
Стихами своими творил.
Народ отвлекал от работы,
К свершеньям великим не звал
И чуждые нам всем заботы
В стихах он своих воспевал.
Не может власть с этим смириться,
Народ наш не в силах понять,
Что в бабочек можно влюбиться,
Им даже стихи посвящать.
Схватили беднягу, терзали,
Погиб он, как тот таракан,
На части, наверное, рвали,
Не вынес, скончался от ран.
И бросили вниз головою,
Неведомо даже куда;
И все заросло там травою,
По счастию, не навсегда.
Любил человек насекомых,
Детишек он тоже любил,
И людям, совсем незнакомым,
Стихи он свои подарил.
* * *
Он видел смерть лицом к лицу,
Но побороть ее сумел,
Как подобает храбрецу.
Он выстоял, так жить хотел.
Достойно век он свой прожил,
Стал признанным поэтом,
И никого не осудил,
Не обвинил при этом.
Что обвинять? Господь осудит,
Ему карать или прощать.
Воздаст отмщение, не забудет
Поставить должную печать.
И гнева жгучего не зная,
Писал про мир и тишину,
И ничего не забывая,
Был счастлив: вот, ведь, «я – живу».
Спокойно осени дождался,
Она вплотную подошла,
Он вздрогнул, но не испугался –
Она приятною была.
Она узнать его пыталась,
Но не узнала. Нас миллион.
И только смерть не посчиталась –
Ей все равно, кто б ни был он.
* * *
Илья Фоняков
ВАДИМ ШЕФНЕР
(1915 – 2002)
Он никого уже не узнавал.
Зрачок не реагировал на свет.
В последнюю дорогу уплывал
Потомок шведов, питерский поэт.
Что ж, прожито немало. И роптать,
По божескому счету, нет причин.
И строчки Блока стал над ним читать
Вдруг, по наитью, как молитву, сын.
И вздрогнул, и поверить мог едва:
Сквозь толщу глухоты и немоты
Отец за ним подхватывал слова –
Уже оттуда, из-за той черты!
И показалось на короткий миг,
Что, может быть, и вправду смерти нет.
Так уходил создатель многих книг,
Потомок шведов, питерский поэт.
* * *
К социализму были не готовы
ни Ленин, к оппонентам нетерпим,
ни интриган рябой, палач оптовый,
ни наш народ, оставшись крепостным.
Но жил в Тбилиси Шура Цыбулевский –
русско-грузинский, в сущности, поэт,
идеалист, в цинизме уцелевший,
за что и был посажен с юных лет.
В терроре вовсе не был он замаран,
за недонос попав по простоте
на ангела подполья – Эллу Маркман,
какую Коммунэллой звали все.
Он ни троцкистом не был, ни эсером,
а всенациональная душа
бессталинским была СССРом,
Пшавелой и Ахматовой дыша.
Когда в нем декадентские отрыжки
нашел однажды критикан-ханжа,
я спас ему изданье первой книжки
«Что сторожат ночные сторожа».
Когда б такие люди, словно Шура,
преподавали совесть всем в стране,
социализм бы вырос сам, без шума,
и с христианством в близкой был родне.
Но до сих пор есть в ком-то Гитлер, Сталин,
хотя они не тянут на вождей.
Когда соединительницей станет
политика – разлучница людей?
Не вымерло еще в России племя
тех, для кого Тбилиси так родной.
Как искупить все ссоры, преступленья?
Признать всю ложь ошибкой и виной.
Порой мудрее выпить по стакану
за разговором братским и мужским,
по Руставели жить, по Пастернаку,
а не по интриганам никаким.
Так что поделать с Грузией, Россией,
чтоб обойтись без ругани, войны?
Да вы бы Цыбулевского спросили –
в себе соединил он две страны.
Не всё решает тайная диппочта.
Живите, тайной жизни дорожа.
Есть братство и любовь. Есть мудрость –
вот что
и сторожат ночные сторожа.
* * *
Державин в полный рост изображен.
Он саном губернатора возвышен.
А фоном служит край, в котором он
поставлен губернаторствовать. Слышен
(вернее, кажется, что слышен) гул
воспетого им в оде водопада.
Так и стоит он. Шубу застегнул:
то ли так холодно, то ли так надо
художнику, а может быть, ему,
Державину.
Но, помню, в Кострому
попал я раз. И в зале ожиданья
вдруг встретил старика с мешком стихов:
тщедушненький (хоть, говорят, волжане -
богатыри), а полушубок - тьфу,
а бороденка - будто у Ду Фу
или других ненынешних-нездешних.
Потом на поезд сел и был таков…
А сколько их в России, стариков,
неведомых и досыта не евших?
* * *
Он никого уже не узнавал.
Зрачок не реагировал на свет.
В последнюю дорогу уплывал
Потомок шведов, питерский поэт.
Что ж, прожито немало. И роптать,
По божескому счету, нет причин.
И строчки Блока стал над ним читать
Вдруг, по наитью, как молитву, сын.
И вздрогнул, и поверить мог едва:
Сквозь толщу глухоты и немоты
Отец за ним подхватывал слова –
Уже оттуда, из-за той черты!
И показалось на короткий миг,
Что, может быть, и вправду смерти нет.
Так уходил создатель многих книг,
Потомок шведов, питерский поэт.
* * *
Евгений Евтушенко
К социализму были не готовы...
К социализму были не готовы
ни Ленин, к оппонентам нетерпим,
ни интриган рябой, палач оптовый,
ни наш народ, оставшись крепостным.
Но жил в Тбилиси Шура Цыбулевский –
русско-грузинский, в сущности, поэт,
идеалист, в цинизме уцелевший,
за что и был посажен с юных лет.
В терроре вовсе не был он замаран,
за недонос попав по простоте
на ангела подполья – Эллу Маркман,
какую Коммунэллой звали все.
Он ни троцкистом не был, ни эсером,
а всенациональная душа
бессталинским была СССРом,
Пшавелой и Ахматовой дыша.
Когда в нем декадентские отрыжки
нашел однажды критикан-ханжа,
я спас ему изданье первой книжки
«Что сторожат ночные сторожа».
Когда б такие люди, словно Шура,
преподавали совесть всем в стране,
социализм бы вырос сам, без шума,
и с христианством в близкой был родне.
Но до сих пор есть в ком-то Гитлер, Сталин,
хотя они не тянут на вождей.
Когда соединительницей станет
политика – разлучница людей?
Не вымерло еще в России племя
тех, для кого Тбилиси так родной.
Как искупить все ссоры, преступленья?
Признать всю ложь ошибкой и виной.
Порой мудрее выпить по стакану
за разговором братским и мужским,
по Руставели жить, по Пастернаку,
а не по интриганам никаким.
Так что поделать с Грузией, Россией,
чтоб обойтись без ругани, войны?
Да вы бы Цыбулевского спросили –
в себе соединил он две страны.
Не всё решает тайная диппочта.
Живите, тайной жизни дорожа.
Есть братство и любовь. Есть мудрость –
вот что
и сторожат ночные сторожа.
* * *
Владимир Британишский
ПОЭТЫ
Державин в полный рост изображен.
Он саном губернатора возвышен.
А фоном служит край, в котором он
поставлен губернаторствовать. Слышен
(вернее, кажется, что слышен) гул
воспетого им в оде водопада.
Так и стоит он. Шубу застегнул:
то ли так холодно, то ли так надо
художнику, а может быть, ему,
Державину.
Но, помню, в Кострому
попал я раз. И в зале ожиданья
вдруг встретил старика с мешком стихов:
тщедушненький (хоть, говорят, волжане -
богатыри), а полушубок - тьфу,
а бороденка - будто у Ду Фу
или других ненынешних-нездешних.
Потом на поезд сел и был таков…
А сколько их в России, стариков,
неведомых и досыта не евших?
* * *
Владимир Британишский
ПИСЬМО ТОВАРИЩА
Александру Городницкому
“…Прости, что коротко, но вертолет уходит…”:
письмо товарища, год пятьдесят девятый.
Еще младая кровь играет в нас и бродит.
Еще из облаков Бог, старый педиатр
(каких теперь уж нет!), глядит на нас с улыбкой
всепонимающей, беспомощной и грустной,
а светлый север наш, наш угрофинско-русский
субконтинент-гигант, наш тихий и великий,
неповоротливый, плывет, плывет, плывет…
Как крохотный комар, взлетает вертолет.
А мы весь день, весь день полярный напролет
играем символами - феррум, купрум, никель -
как в детстве кубиками с буквами на них.
Далекая гроза, как ртутный выпрямитель,
сверхфиолетовая, ослепит на миг,
и снова свет и свет, и длится день полярный,
словно бессмертие, где пребывать вовек…
И правда: двадцать лет! А я, неблагодарный,
все недоволен был!.. Подумай: двадцать лет!
* * *
Ранним утром с похмелья ловлю
влажный воздух василеостровский…
Ранних - я вас вовеки люблю,
ранний Уфлянд и ранний Горбовский!
Ранний Ленька и ранний Олег!
Все мы ранние, все молодые,
и поем Городницкого “Снег”,
и горняцких своих эполет
драим буквы, почти золотые.
Ранний Рейн, ранний Бобышев! Рань
ленинградская! ранний Голявкин!..
Не вернуть тот потерянный рай
в Ленинграде моем ненаглядном!
Приезжаю - но нет никого,
нет ни в городе, ни в Комарово.
Вдруг пойму: нет меня самого,
начинающего, молодого.
Где тот юноша, вышедший в путь?..
Не забыть бы, где лево, где право!..
Не забыть бы добром помянуть
двух апостолов, Глеба и Дара!
Целый в памяти иконостас
всех уехавших или ушедших.
Мы ли смотрим? они ли на нас?
мы ли или они нас утешат?
Не докличусь их, не дозовусь
из могил или из эмиграций…
Ваши лица твержу наизусть,
дорогие мои ленинградцы!
Вот вы все: Саша Ку, Саша Шу,
удивленно-скептический Лева…
А увижу вас - что вам скажу?
Издалёка гляжу умиленно.
* * *
Это чёрная работа -
красоте учить кого-то.
Что отсталые народы,
что морального урода.
Боги были.
Сотворили
человека. Но забыли -
красоте недоучили.
И на радостях запили.
(А потом их упразднили.)
Почему-то, отчего-то
этой чёрною работой
заниматься неохота
ни царям, ни слесарям.
Но ведь кто-то в мире должен
это делать.
Эй, художник!
Эй, Поэт! - сию заботу
передали боги вам.
Незакончен и неточен,
жаждет мир, чтоб ты помог.
Ты - его чернорабочий,
но - чернорабочий бог!
Нет божественней занятья,
чем уроки красоты!
Отрицание распятья -
наши строчки и холсты.
Извините - не до ландышей.
Всего радостнее нам
человечество, разламывающее
хлеб искусства пополам.
Хлебом тем и озабочено,
ходит племя чудаков,
горбясь, как чернорабочие,
вдохновеннее богов.
* * *
О чем бы ни писал поэт,
О чем бы рифмы ни звенели -
О соловьях, о женском теле,
В сонете, хокку и газели, -
Он помнит пушкинский завет.
Готов Отчизне посвятить
Поэт и жизнь свою, и лиру.
Он, не таясь, откроет миру
Глубины сердца; но сатирой
Не будет Родину корить!
Он на полях чужих газет
Не станет Родину позорить;
В антироссийском хороводе
На «Дойче велле» и «Свободе»
Хулою злой не прохрипит.
Поэта обвинят враги
В патриотизме, святотатстве,
И в рукосуйстве, русопятстве,-
И даже затяжном ненастье,
Когда вокруг - ни зги, ни зги...
Жить в нашем мире нелегко
Поэтам русским и российским.
Все в суете; с мышиным писком
Все рвутся до халявной миски
С икрой и птичьим молоком.
Какое варево кипит
В котлах национальной спеси!
Враждебны города и веси!
Гляди - подстрелят и повесят
Всех, кто по-русски говорит!
Сквозь улюлюканье и свист
В кругу интеллигентных фриков
Промолвишь: «Русский дух велик!»
Под угрожающие крики
Приклеют кличку: «Шовинист!»
Поэт в раздумье: уступить?
Или ступить на баррикады?
Его ночные променады
Увы - не принесли отрады.
Осталось - в петлю… Иль запить…
Сергей Есенин и Рубцов –
Великомученики слова…
Но Русь святая встанет снова!
Творит кудесница Реброва,
И в силе Николай Рачков!
Я обожаю слово «Русь».
Ласкает душу слово – «русский»…
Россия - пир, а не закуска!
Нет, мы не вымрем, как этруски!
Но все же не проходит грусть…
* * *
Уходят поэты,
Оставив стихи,
Уходят эпохи
Заметные штрихи,
Шестидесятые -
Политех,
Собрал поэзии
Любителей всех:
Андрей Вознесенский,
Как вестник вселенский,
Он рубит слог,
Сметая рифму,
Как будто из слов
Выводит цифру,
И Евтушенко молодой,
Евгений смело
Звенит строкой.
На сцене Белла
Читает смело,
Век серебряный
Продолжая,
В ряд великих
Твёрдо вступая,
В строй Цветаевой,
Пастернака,
Хоть и юная
Она пока.
Голос звонкий
В зале звучит,
С любимыми не расставайтесь,
Он кричит.
Зал переполнен,
Стоят в проходах,
Воздух наполнен
Свободой слова.
Уходят поэты,
Оставив стихи,
Уходят эпохи
Заметные штрихи.
Написано в день смерти Беллы Ахмадулиной
* * *
Памяти Беллы Ахмадулиной
Когда в шестидесятых пели вы,
Писали, не склоняя головы,
Талантливо, задиристо и смело –
Я только зрела:
Жила, росла в читающей среде,
Купалась в поэтическом дожде.
Когда страна ваш каждый звук ловила –
Копила силы.
Теперь с моих вершин спасибо вам
За то, что вы не шли по головам,
Что и в метель, и в месяцы капели
Вы чисто пели
И рифмами будили страсть и дух.
Мне ваши строчки не ласкали слух.
Вы в грудь своей позицией – не позой
Вошли занозой.
И голос ваших лет в моей струне,
Как эстафета переданный мне,
Звучит и отзывает
ся, хрустален,
Теплом проталин.
* * *
Ночь. Пустырь. И строительный мусор.
Пробираюсь наощупь. Куда-то иду...
Непролазная грязь словно вражеский бруствер.
Чуть неверно шагну - упаду, пропаду.
Словно стая голодных, озлобленных псов
Окружает, готовая в клочья порвать,
Разорвать защищающий душу покров.
Чем я жил, что я есть - всё отнять.
Ночь. Пустырь. Одиночество - вечный агрессор.
Под ногами предательски мусор скрипит.
Окружающий мир - отягчающий стрессор,
Даже ночью - проклятье! - не спит...
Я иду. Впереди окончанье маршрута.
Что там будет - не знаю, но что-то там есть.
Пусть теперь не дождусь наступления утра,
Но пройду этот путь, сохранив свою честь.
Мы потеряли Новеллу. Будем помнить и любить всегда!
* * *
На старинном-старинном Арбате,
а быть может в Замоскворечье,
будет женщина в красном платье
в мастерской художника Фалька,
тихо руки сложив на коленях,
на простом табурете сидеть.
На огонь она будет смотреть…
Будет чайник зелёный урчать
и греметь очумевшею крышкой
на железной проржавленной печке.
Будет голубь топтаться на крыше
и заглядывать тайно в окно
золотым немигающим глазом.
Это было.
Но давным-давно.
Уже нету того человека,
что насмешливо смешивал краски
голубые – с зелёным и красным
на суровых нитках холстины.
Остаются стихи и картины.
“…Прости, что коротко, но вертолет уходит…”:
письмо товарища, год пятьдесят девятый.
Еще младая кровь играет в нас и бродит.
Еще из облаков Бог, старый педиатр
(каких теперь уж нет!), глядит на нас с улыбкой
всепонимающей, беспомощной и грустной,
а светлый север наш, наш угрофинско-русский
субконтинент-гигант, наш тихий и великий,
неповоротливый, плывет, плывет, плывет…
Как крохотный комар, взлетает вертолет.
А мы весь день, весь день полярный напролет
играем символами - феррум, купрум, никель -
как в детстве кубиками с буквами на них.
Далекая гроза, как ртутный выпрямитель,
сверхфиолетовая, ослепит на миг,
и снова свет и свет, и длится день полярный,
словно бессмертие, где пребывать вовек…
И правда: двадцать лет! А я, неблагодарный,
все недоволен был!.. Подумай: двадцать лет!
* * *
Владимир Британишский
Ранним утром с похмелья ловлю…
Ранним утром с похмелья ловлю
влажный воздух василеостровский…
Ранних - я вас вовеки люблю,
ранний Уфлянд и ранний Горбовский!
Ранний Ленька и ранний Олег!
Все мы ранние, все молодые,
и поем Городницкого “Снег”,
и горняцких своих эполет
драим буквы, почти золотые.
Ранний Рейн, ранний Бобышев! Рань
ленинградская! ранний Голявкин!..
Не вернуть тот потерянный рай
в Ленинграде моем ненаглядном!
Приезжаю - но нет никого,
нет ни в городе, ни в Комарово.
Вдруг пойму: нет меня самого,
начинающего, молодого.
Где тот юноша, вышедший в путь?..
Не забыть бы, где лево, где право!..
Не забыть бы добром помянуть
двух апостолов, Глеба и Дара!
Целый в памяти иконостас
всех уехавших или ушедших.
Мы ли смотрим? они ли на нас?
мы ли или они нас утешат?
Не докличусь их, не дозовусь
из могил или из эмиграций…
Ваши лица твержу наизусть,
дорогие мои ленинградцы!
Вот вы все: Саша Ку, Саша Шу,
удивленно-скептический Лева…
А увижу вас - что вам скажу?
Издалёка гляжу умиленно.
* * *
Юнна Мориц
ЮННЕ МОРИЦ
Это чёрная работа -
красоте учить кого-то.
Что отсталые народы,
что морального урода.
Боги были.
Сотворили
человека. Но забыли -
красоте недоучили.
И на радостях запили.
(А потом их упразднили.)
Почему-то, отчего-то
этой чёрною работой
заниматься неохота
ни царям, ни слесарям.
Но ведь кто-то в мире должен
это делать.
Эй, художник!
Эй, Поэт! - сию заботу
передали боги вам.
Незакончен и неточен,
жаждет мир, чтоб ты помог.
Ты - его чернорабочий,
но - чернорабочий бог!
Нет божественней занятья,
чем уроки красоты!
Отрицание распятья -
наши строчки и холсты.
Извините - не до ландышей.
Всего радостнее нам
человечество, разламывающее
хлеб искусства пополам.
Хлебом тем и озабочено,
ходит племя чудаков,
горбясь, как чернорабочие,
вдохновеннее богов.
* * *
Русскому поэту
Геннадий Шалюгин
О чем бы ни писал поэт,
О чем бы рифмы ни звенели -
О соловьях, о женском теле,
В сонете, хокку и газели, -
Он помнит пушкинский завет.
Готов Отчизне посвятить
Поэт и жизнь свою, и лиру.
Он, не таясь, откроет миру
Глубины сердца; но сатирой
Не будет Родину корить!
Он на полях чужих газет
Не станет Родину позорить;
В антироссийском хороводе
На «Дойче велле» и «Свободе»
Хулою злой не прохрипит.
Поэта обвинят враги
В патриотизме, святотатстве,
И в рукосуйстве, русопятстве,-
И даже затяжном ненастье,
Когда вокруг - ни зги, ни зги...
Жить в нашем мире нелегко
Поэтам русским и российским.
Все в суете; с мышиным писком
Все рвутся до халявной миски
С икрой и птичьим молоком.
Какое варево кипит
В котлах национальной спеси!
Враждебны города и веси!
Гляди - подстрелят и повесят
Всех, кто по-русски говорит!
Сквозь улюлюканье и свист
В кругу интеллигентных фриков
Промолвишь: «Русский дух велик!»
Под угрожающие крики
Приклеют кличку: «Шовинист!»
Поэт в раздумье: уступить?
Или ступить на баррикады?
Его ночные променады
Увы - не принесли отрады.
Осталось - в петлю… Иль запить…
Сергей Есенин и Рубцов –
Великомученики слова…
Но Русь святая встанет снова!
Творит кудесница Реброва,
И в силе Николай Рачков!
Я обожаю слово «Русь».
Ласкает душу слово – «русский»…
Россия - пир, а не закуска!
Нет, мы не вымрем, как этруски!
Но все же не проходит грусть…
* * *
Уходят поэты
Александра Раина
Уходят поэты,
Оставив стихи,
Уходят эпохи
Заметные штрихи,
Шестидесятые -
Политех,
Собрал поэзии
Любителей всех:
Андрей Вознесенский,
Как вестник вселенский,
Он рубит слог,
Сметая рифму,
Как будто из слов
Выводит цифру,
И Евтушенко молодой,
Евгений смело
Звенит строкой.
На сцене Белла
Читает смело,
Век серебряный
Продолжая,
В ряд великих
Твёрдо вступая,
В строй Цветаевой,
Пастернака,
Хоть и юная
Она пока.
Голос звонкий
В зале звучит,
С любимыми не расставайтесь,
Он кричит.
Зал переполнен,
Стоят в проходах,
Воздух наполнен
Свободой слова.
Уходят поэты,
Оставив стихи,
Уходят эпохи
Заметные штрихи.
Написано в день смерти Беллы Ахмадулиной
* * *
Ольга Альтовская
ОТТЕПЕЛЬ. ПОЭТАМ «ШЕСТИДЕСЯТНИКАМ»
Памяти Беллы Ахмадулиной
Когда в шестидесятых пели вы,
Писали, не склоняя головы,
Талантливо, задиристо и смело –
Я только зрела:
Жила, росла в читающей среде,
Купалась в поэтическом дожде.
Когда страна ваш каждый звук ловила –
Копила силы.
Теперь с моих вершин спасибо вам
За то, что вы не шли по головам,
Что и в метель, и в месяцы капели
Вы чисто пели
И рифмами будили страсть и дух.
Мне ваши строчки не ласкали слух.
Вы в грудь своей позицией – не позой
Вошли занозой.
И голос ваших лет в моей струне,
Как эстафета переданный мне,
Звучит и отзывает
ся, хрустален,
Теплом проталин.
* * *
Пессимист - Новелле Матвеевой - с любовью...
Владимир Будный
"Было волшебно всё: даже бумажный сор!
Даже мешалку-палку вспоминаю до сих пор!.."
Новелла Матвеева, "Дома без крыш"
Ночь. Пустырь. И строительный мусор.
Пробираюсь наощупь. Куда-то иду...
Непролазная грязь словно вражеский бруствер.
Чуть неверно шагну - упаду, пропаду.
Словно стая голодных, озлобленных псов
Окружает, готовая в клочья порвать,
Разорвать защищающий душу покров.
Чем я жил, что я есть - всё отнять.
Ночь. Пустырь. Одиночество - вечный агрессор.
Под ногами предательски мусор скрипит.
Окружающий мир - отягчающий стрессор,
Даже ночью - проклятье! - не спит...
Я иду. Впереди окончанье маршрута.
Что там будет - не знаю, но что-то там есть.
Пусть теперь не дождусь наступления утра,
Но пройду этот путь, сохранив свою честь.
Мы потеряли Новеллу. Будем помнить и любить всегда!
* * *
К портрету Ксении Некрасовой
Попов Владимир Николаевич
На старинном-старинном Арбате,
а быть может в Замоскворечье,
будет женщина в красном платье
в мастерской художника Фалька,
тихо руки сложив на коленях,
на простом табурете сидеть.
На огонь она будет смотреть…
Будет чайник зелёный урчать
и греметь очумевшею крышкой
на железной проржавленной печке.
Будет голубь топтаться на крыше
и заглядывать тайно в окно
золотым немигающим глазом.
Это было.
Но давным-давно.
Уже нету того человека,
что насмешливо смешивал краски
голубые – с зелёным и красным
на суровых нитках холстины.
Остаются стихи и картины.
* * *
К 80-летию А. М. Городницкого
Михаил Гонышев
Над кипящим самоваром,
над теплом его и паром,
никогда не буду старым,
никогда не буду старым.
А. Городницкий
"Когда на сердце тяжесть
и холодно в груди,
к ступеням Эрмитажа
ты в сумерки приди..."
Вглядись в Атлантов лица,
когда растает мгла:
вон, видишь - Городницкий...
Четвёртый от угла...
Презрев свои таланты,
науку, сон и стих,
стоит среди Атлантов
как свой среди своих,
стоит, хоть и не сладко,
вцепившись за карниз:
чуть-чуть ослабит хватку -
и небо рухнет вниз!
И в ливни, и в морозы
стоит... А в чём вина?
Изысканная поза...
Расслаблена спина...
Значение опоры
поймёт любой балбес:
приковывает взоры
и вдовий интерес...
И ветрено, и зябко,
и пялится народ.
Из шмоток - только тряпка,
и та вот-вот сползёт...
Короче, неуютно.
Точнее, не зер гут.
Так хочется на судно,
но судно не несут...
Ведь он - океанолог,
знаток морских глубин.
Срок вахты слишком долог -
с рассвета до... седин.
И давит неба глыба,
а в голове одно:
какие в небе рыбы,
и есть ли в небе дно...
Здесь всякое возможно,
но не слыхать нытья.
Стоять без хлеба - сложно,
тоскливо - без питья...
И смены всё не видно,
неблагодарен труд...
Отказываться - стыдно,
а отпуск - не дают.
Хоть слева глянь, хоть справа,
профессия - не мёд!
Ни почестей, ни славы,
а держишь - круглый год!
На локти гадят птицы,
и хочется чихать,
но терпит Городницкий,
ему не привыкать...
Такая злая шутка!
Поймать бы дурака...
Просили - на минутку,
а вышло - на века!
Нас всех одно лишь радует
и дарит сладкий сон -
что небо всё не падает,
что так же крепок он!
* * *
Марк Богославский
ПРОЩАНИЕ С ЮЛИЕМ ДАНИЭЛЕМ
Душа оторвалась от тела,
А тело, напрягая слух,
Пытается узнать пределы,
В которых обитает дух.
Земля трясётся – там, на юге:
Разваливаются дома.
И лишь ночами, на досуге,
Беседует со мной о друге
Покойном
мировая тьма.
Мы с ним шатались и глазели
На девок и на лошадей,
На разговорчивую зелень
И гвоздики степных дождей.
Ещё в шинелишках солдатских,
Последней коркой поделясь,
Мы гнули истинам салазки
И ладили с бессмертьем связь.
Перебивали друг у друга
Баб, - не считая за беду
Распев печальный и упругий
Трубы у смерти на виду.
И вот он спит, с душой расставшись,
А я по улицам хожу,
Всё не решусь, всё не отважусь
Уйти за белую межу.
Снежок со мной устало шутит,
Воробышек клюёт зерно,
И в уличном холодном шуме
Та баба в соболиной шубе
Показывает на окно,
Где свет погас, где в тёплом мраке
Любви свершается обряд
И женские нагие руки
За жизнь и смерть благодарят.
В который раз мы с Даниэлем
Ведём неутолимый счёт
Дождям, распутицам, метелям,
Бутылкам, женщинам и елям –
Всему, что в вечности живёт.
* * *
Высоцкий, Бродский, Башлачёв
Алексей Савинков
Высоцкий, Бродский,
Да Башлачёв!
И двор наш скотский
Через плечо
Кнут Кнутовище
– стозвон в ушах.
Поэт?! В кострище
И с матом шаг!
Сгорает память
От злой Искры,
Покружит замять
И ком с горы!
С тоски печали,
Зудит плечо,
Эх, кабы знали
Где горячо!
Держи уздечку,
Слезай с саней.
Айда на речку
Купать коней!
* * *
С. Щипачеву
Владимир Малых 2
Вечерний Богданович! Он весь теперь в огнях,
а «Спутник»* предлагает... носки, бери их прах!
Когда-то здесь крутили комедии-кино,
теперь о них забыли, не до комедий, но…
В дворце огнеупорщиков опять идет концерт,
и ваши песни льются, их не забыли, нет.
Поют с душой ребята «Рабочей Слободы»,
они уже в Европе оставили следы!
От школьников со сцены стихи военных дней…
Все души растревожили давно седых людей.
Тех, кто ходил в атаку, сжимая автомат,
как будто вспоминает, горящий Сталинград.
А там, за океаном, как видно кто с годами…
Забыл Берлин поверженный и над рейхстагом
знамя.
* * *
Сергей Сафонов
ПРОГУЛКА ПО ВЕНЕЦИИ
Летит виноградная ягода -
То ли с лозы, то ли из рук Иосифа Бродского.
Гуляющего по Венеции
С другом души - Евгением Рейном.
Смотрят на воду, пьют вино,
Смеются и катаются на гондоле,
Касаясь руками арок мостиков
Через вены–каналы южного города,
Два влиятельных в мире поэта, два чудака,
Занесенных ветром истории
В такую близкую и далекую
Живописную Италию
Улыбками горожанок
И взором красивых мужчин -
Вежливых и расторопных,
Гибких искусителей и любовников.
Два великана, два мудреца
Все это видят и понимают
И обсуждают молча,
Делая выводы и любуясь
Окружающим миром,
Курят, машут руками,
Соприкасаясь с Вечностью,
Как бы шутя, ставят точки над "i".
…И оставляя след уже сказанными,
Вслух и про себя строками,
Полными экспрессии мысли и чувства,
И понимая значимость каждого мига,
Словно предчувствуя скорбь расставанья,
Взирают прощально на сооруженья
Вечной и мудрой Венеции -
Матери и Сестры всего Человечества,
Вобравшей в себя всю боль,
Всю радость бытия двух сердец
Исстрадавшихся по любви поэтов
И граждан России и планеты - Земля.
…Плывет одиноко гондола
В направлении адриатического простора,
Оставив на берегу истории
Печального и парадоксального Рейна.* * *
Герман Гецевич
ВИКТОРУ СОСНОРЕ
самодержец формальных школ –
презирающий протокол
пара глаз – штормовая мгла
в сотню баллов... а боль была...
в горле сухо... мотив баюч...
вместо уха – скрипичный ключ
помнит каждым изгибом моч
кислый вкус пустотелых молч
и сквозь ломку святых основ
тянет лямку звучащих слов
знает каждым изгибом рук:
муки счастья и счастье мук
и чем дышит в лицо судьба
слышит каждой морщиной лба –
по-бетховенски: глух и дик –
как Европу укравший бык
пишет-пашет пером скрипя:
над собой...
о себе...
себя...
* * *
Век двадцатый рвал и корёжил...
Виктор Майсов
"Век двадцатый рвал и корёжил,Проверял - на разрыв, на распыл.
Но ведь были: Есенин Сережа,
Гумилев, Маяковский - был!
Были Анна, Мария, Марина...
Сколько струн, сколько строф, сколько света!
Русь - Вселенная, Русь - единственная,
Русь - звезда, что не гаснет с рассветом.
Подхватили упавшее знамя,
Есть кому за Россию сразиться:
Передреев, Рубцов, Куняев,
Кузнецов, Распутин, Казинцев...
И на смену уже спешат
молодые открытые лица."
Источник: http://www.chitalnya.ru/work/3811/
При копировании материалов с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.
Все права защищены © Chitalnya.ru
* * *
Уходят большие поэты...
Зиновий Вальшонок
Уходят большие поэты,покинув провидческий круг,
тая откровений секреты
и выронив перья из рук.
Их стих, в нашей памяти рея,
как сгусток страстей и идей,
несёт в себе вещее Время,
восторги и скорби людей.
В тумане теряются лица,
и души взирают с высот
на землю, но, как говорится,
природа не терпит пустот.
И ветреный сброд маргинальный,
безвременья праздная рать,
стремится тот круг магистральный
гурьбой графоманской занять.
Но нет ни живого глагола,
ни мысли, волнующей нас.
И выглядит пошло и голо
утративший святость Парнас.
* * *
Новелле Матвеевой
Александр Городницкий
Матвеева Новелла Николаевна (р.1934) — поэт, автор песен.
"Я отношу Новеллу Матвееву к трём из главных ныне здравствующих поэтов в жанре авторской песни. Это Булат Окуджава, Юлий Ким и Новелла Матвеева. Когда я оказался впервые в Аделаиде, в Австралии, я увидел на горизонте остров и спросил, как он называется. Мне ответили: "Кенгуру". Я спросил у неё — она не знала, что этот остров реально существует, понимаете, — она сама его придумала. Её многие песни стали истинно народными... В том далёком 1969 году, когда я с ней познакомился, она уже была больна и не могла ездить ни на чём, ходила только пешком, потому что её укачивало. Когда я впервые попал к ней и увидел её жуткую коммунальную квартиру, ещё старого типа такую коммуналку с видом из окна на Ваганьково кладбище, я понял, какого могучего воображения и солнечного таланта этот художник. И тогда я написал эту песню".
А над Москвою небо невесомое,
В снегу деревья с головы до пят,
И у Ваганькова трамваи сонные, (*)
Как лошади усталые, стоят.
Встречаемый сварливою соседкою,
Вхожу к тебе, досаду затая.
Мне не гнездом покажется, а клеткою
Несолнечная комната твоя.
А ты поёшь беспомощно и тоненько,
И, в мире проживающий ином,
Я с твоего пытаюсь подоконника
Дельфинию увидеть за окном. (**)
Слова, как листья, яркие и ломкие,
Кружатся, опадая с высоты,
А за окном твоим заводы громкие
И тихие могильные кресты.
Но суеты постылой переулочной
Идёшь ты мимо, царственно слепа.
Далёкий путь твой до ближайшей булочной
Таинственен, как горная тропа.
И музыкою полно воскресение,
И голуби ворчат над головой,
И поездов ночных ручьи весенние
Струятся вдоль платформы Беговой. (***)
А над Москвою небо невесомое,
В снегу деревья с головы до пят,
И у Ваганькова трамваи сонные,
Как лошади усталые, стоят.
___________________________________
*) Ваганьково - имеется в виду
Ваганьковское кладбище.
**) Дельфиния - имеется в виду страна
Дельфиния из одноименной песни
Н.Матвеевой ("Набегают волны синие...", 1961).
***) Беговая - железнодорожная платформа
в Москве по Белорусскому направлению.
* * *
Евгений ЕвтушенкоИлья Эренбург
1891-1967
Крещатицкий парижанин
Не люблю в Эренбурга камней,
хоть меня вы камнями побейте.
Он, всех маршалов наших умней,
нас привел в сорок пятом к победе.
Танк назвали "Илья Эренбург".
На броне эти буквы блистали.
Танк форсировал Днепр или Буг,
но в бинокль наблюдал за ним Сталин.
Не пускали, газету прочтя,
Эренбурга на самокрутки,
и чернейшая зависть вождя
чуть подымливала из трубки.
Чем опасен был гений газет
всемогуществу гения злого?
Власть сексотов, орудий, ракет
завидуща к всевластию слова.
И, продумывая погром,
вождь, быть может, неслышимо буркнул:
"Кто окажется под пером
после Гитлера у Эренбурга?"
Желчным циником став от обид,
был в наивности неподражаем
вечный русско-советский жид
и крещатицкий парижанин.
Он был счастлив на rue de Passi
и под лорковскими небесами,
но дамокловы эти усы
над беретом и там нависали.
А усам-то - им как угодишь?
Стать расческой для них?
На хрен им-то
его нежно любимый Париж,
его Хулио Хуренито.
Всех евреев загнать за Читу
вздумал вождь (по их просьбе - не палкой!),
чтобы вновь узаконить черту
беззаконной оседлости жалкой.
По евреям пошел перепуг:
либо подпись твоя, либо гибель.
Молча корчился Эренбург,
будто смерд, на невидимой дыбе.
Красноречием немоты,
не отделаться, если всё глухо,
и не смог пересечь он черты
поднадзорной оседлости духа.
Но слоновьи взревел в небосвод
его танк, что дошел до Берлина,
так что смерзлись в лиловый лед,
став непишущими, чернила.
И вступил Эренбург в диалог,
и подкинул он столько сомнений,
так что самоназначенный бог
вдруг застопорил подлый свой гений.
Эренбург возражать не дерзал,
но во времени мерзостно-грозном
то, что он полупротив сказал,
не решился сказать даже Гроссман.
Наша жизнь - как потомкам письмо,
в нем - свидетельства славы и краха.
Не умрет, к сожаленью, само
всё, подписанное от страха.
Но когда обвиняют сейчас,
как в предательстве, в полупротив,
их спросить бы: есть совесть у вас?
Вы всю жизнь свою полностью врёте!
Полурыцарь и полупророк
выше вас, и вам с ним не сравниться.
Танк "Илья Эренбург" нам помог -
спас правдивость мучительных строк,
раздавил с полуправдой страницы.
хоть меня вы камнями побейте.
Он, всех маршалов наших умней,
нас привел в сорок пятом к победе.
Танк назвали "Илья Эренбург".
На броне эти буквы блистали.
Танк форсировал Днепр или Буг,
но в бинокль наблюдал за ним Сталин.
Не пускали, газету прочтя,
Эренбурга на самокрутки,
и чернейшая зависть вождя
чуть подымливала из трубки.
Чем опасен был гений газет
всемогуществу гения злого?
Власть сексотов, орудий, ракет
завидуща к всевластию слова.
И, продумывая погром,
вождь, быть может, неслышимо буркнул:
"Кто окажется под пером
после Гитлера у Эренбурга?"
Желчным циником став от обид,
был в наивности неподражаем
вечный русско-советский жид
и крещатицкий парижанин.
Он был счастлив на rue de Passi
и под лорковскими небесами,
но дамокловы эти усы
над беретом и там нависали.
А усам-то - им как угодишь?
Стать расческой для них?
На хрен им-то
его нежно любимый Париж,
его Хулио Хуренито.
Всех евреев загнать за Читу
вздумал вождь (по их просьбе - не палкой!),
чтобы вновь узаконить черту
беззаконной оседлости жалкой.
По евреям пошел перепуг:
либо подпись твоя, либо гибель.
Молча корчился Эренбург,
будто смерд, на невидимой дыбе.
Красноречием немоты,
не отделаться, если всё глухо,
и не смог пересечь он черты
поднадзорной оседлости духа.
Но слоновьи взревел в небосвод
его танк, что дошел до Берлина,
так что смерзлись в лиловый лед,
став непишущими, чернила.
И вступил Эренбург в диалог,
и подкинул он столько сомнений,
так что самоназначенный бог
вдруг застопорил подлый свой гений.
Эренбург возражать не дерзал,
но во времени мерзостно-грозном
то, что он полупротив сказал,
не решился сказать даже Гроссман.
Наша жизнь - как потомкам письмо,
в нем - свидетельства славы и краха.
Не умрет, к сожаленью, само
всё, подписанное от страха.
Но когда обвиняют сейчас,
как в предательстве, в полупротив,
их спросить бы: есть совесть у вас?
Вы всю жизнь свою полностью врёте!
Полурыцарь и полупророк
выше вас, и вам с ним не сравниться.
Танк "Илья Эренбург" нам помог -
спас правдивость мучительных строк,
раздавил с полуправдой страницы.
* * *
Евгений Евтушенко
Николай Тихонов
1896-1979
Я не хотел знакомиться с Н. Тихоновым.
Он свой талант задвинул на засов.
Он пренебрег неумолимым тиканьем
истории стремительных часов.
Он так скрипел красиво портупеями,
чертами резок и широк в кости,
и обещал такими эпопеями
воображенье наше потрясти.
Я обожал его баллады ранние,
а сам он оказался не таков.
Он стал похож на полное собрание
большущих страхов, крохотных страшков.
Седой, он внешне был штормово-кипенным,
а сам во сне был с биркою нагим,
и оказался он трусливым Киплингом -
советский Киплинг мог ли быть другим?
В то время были многие писатели
гораздо исполнительней и злей -
гвоздей в ладони резвые вбиватели,
и крепче в мире не было гвоздей.
Он прожил от Распутина до спутника,
он стал, - гусар и красный командир, -
гвоздем-служакой, тем, на ком уютненько
висели Сталин, и Хрущев, и др.
Тряпичный лев, покорно верный партии,
он осыпал опилки на паркет.
Его стихи не выброшу из памяти.
Несчастный человек. Большой поэт.
Он свой талант задвинул на засов.
Он пренебрег неумолимым тиканьем
истории стремительных часов.
Он так скрипел красиво портупеями,
чертами резок и широк в кости,
и обещал такими эпопеями
воображенье наше потрясти.
Я обожал его баллады ранние,
а сам он оказался не таков.
Он стал похож на полное собрание
большущих страхов, крохотных страшков.
Седой, он внешне был штормово-кипенным,
а сам во сне был с биркою нагим,
и оказался он трусливым Киплингом -
советский Киплинг мог ли быть другим?
В то время были многие писатели
гораздо исполнительней и злей -
гвоздей в ладони резвые вбиватели,
и крепче в мире не было гвоздей.
Он прожил от Распутина до спутника,
он стал, - гусар и красный командир, -
гвоздем-служакой, тем, на ком уютненько
висели Сталин, и Хрущев, и др.
Тряпичный лев, покорно верный партии,
он осыпал опилки на паркет.
Его стихи не выброшу из памяти.
Несчастный человек. Большой поэт.
* * *
Евгений Евтушенко
Владимир Луговской
1901-1957Дядь Володя
У могилы дядь Володи
нет ограды никакой.
Бровью каменной поводит
его профиль колдовской.
Там стоит, цветы ломая,
чтоб не продали их вновь,
обольстительная Майя -
его первая любовь.
И для стольких его женщин -
подавальшиц и актрис -
незабвенен он, ушедший,
как переходящий приз.
В годы ханжества, тиранства,
ЦКШ и ВПШ
не спасало даже пьянство -
только женская душа
Он, казавшийся твердыней,
вдруг рассыпался в момент,
вместо фронта выбрав дыни,
пловом пахнущий Ташкент.
Но, вступая в поединок,
может, больший, чем война,
он писал "Алайский рынок"
на любые времена.
В чайхане на перевале
и в замызганной пивной
его трусом называли
за большой его спиной.
Что же, в путанице вкусов
неясна для дураков
смелость кажущихся трусов,
трусость лживых смельчаков.
* * *
Евгений ЕвтушенкоОГРАДА
ты ограблена оградой.Ограда, отделила ты его
от грома грузовых,
от груш,
от града
агатовых смородин.
От всего, что в нем переливалось, мчалось, билось,
как искры из-под бешеных копыт.
Все это было буйный быт —
не бытность.
И битвы —
это тоже было быт.
Был хряск рессор
и взрывы конских храпов,
покой прудов
и сталкиванье льдов,
азарт базаров
и сохранность храмов,
прибой садов
и груды городов.
Подарок — делать созданный подарки,
камнями и корнями покорен,
он, словно странник, проходил по давке
из-за кормов и крошечных корон.
Он шел,
другим оставив суетиться.
Крепка была походка и легка
серебряноголового артиста
со смуглыми щеками моряка.
Пушкинианец, вольно и велико
он и у тяжких горестей в кольце
был как большая детская улыбка
у мученика века на лице.
И знаю я — та тихая могила
не пристань для печальных чьих-то лиц.
Она навек неистово магнитна
для мальчиков, цветов, семян и птиц.
Могила,
ты ограблена оградой,
но видел я в осенней тишине:
там две сосны растут, как сестры, рядом —
одна в ограде и другая вне.
И непреоборимыми рывками,
ограду обвиняя в воровстве,
та, что в ограде, тянется руками
к не огражденной от людей сестре.
Не помешать ей никакою рубкой!
Обрубят ветви —
отрастут опять.
И кажется мне —
это его руки
людей и сосны тянутся обнять.
Всех тех, кто жил, как он, другим наградой,
от горестей земных, земных отрад
не отгородишь никакой оградой.
На свете нет еще таких оград.
* * *
Евгений Евтушенко
Анна Баркова
1901-1976
Анна третья
Анна Третья - Анна Баркова.
(Транссибирка, бирка, барак.)
Говорил один бритоголовый:
«Баба в лагере - дело не ново...
Порешили мы, - только хреново:
"Эту - можно и нужно. Верняк".
Но бодливая эта корова,
та, что в лагерь привез товарняк,
так боднула ногой за два слова,
что согнулся один блатняк,
словно он вопросительный знак.
Справедлива, хотя сурова.
А вот пишет стихи фартово.
Пробивает всю душу. Готова
доходягам читать за так.
Даже повар-кавказец в столовой
что-то сделал ей вроде плова,
называет ее "кунак"!
И стихи ее — аж до рева
пробирают женский барак.
Свой двадцатник уже отсидела.
Как бы нам удлинить ее дело? -
без нее нам не выжить никак».
Автор стихотворения "Коммунисты, вперед!"
расплатился за детство с оладушками и ладушками.
Примерзала буханка к буханке
в раздрызганном кузове на ходу,
когда хлеб Ленинграду
возил посиневший от стужи солдатик
по ладожскому,
не ломавшемуся
от сострадания
льду.
Автор стихотворения "Коммунисты, вперед!"
не учил меня быть коммунистом -
он учил меня Блоку и женщинам,
картам, бильярду, бегам.
Он учил не трясти
пустозвонным стихом, как монистом,
но ценил, как Глазков,
звон стаканов по сталинским кабакам.
Так случилось когда-то,
что он уродился евреем
в нашей издавна нежной к евреям стране.
Не один черносотенец будущий
был им неосторожно лелеем,
как в пеленках,
в страницах,
где были погромы в набросках,
вчерне.
И когда с ним случилось несчастье,
которое может случиться
с каждым, кто за рулем
(упаси нас, Господь!),
то московская чернь -
многомордая алчущая волчица
истерзала клыками
пробитую пулями Гитлера плоть.
Няня Дуня - Россия -
твой мальчик,
седой фантазер невезучий,
подцепляет пластмассовой вилкой в Нью-Йорке
"fast food".
Он в блокаде опять.
Он английский никак не изучит,
и во сне его снова
фашистские танки ползут.
Неподдельные люди
погибали в боях за поддельные истины.
Оказалось, что смертно бессмертие ваше,
Владимир Ильич.
Коммунисты-начальники
стали начальниками-антикоммунистами,
а просто коммунисты подыхают
в Рязани или на Брайтон-бич.
Что же делаешь ты,
мать-и-мачеха Родина,
с нами со всеми?
От словесной войны
только шаг до гражданской войны
"Россияне"
сегодня звучит как "рассеяние".
Мы-
осколки разломанной нами самими страны.
Автор стихотворения "Коммунисты, вперед!",
мой бесценный учитель,
раскрывает -
простите за рифму плохую -
английский самоучитель.
Он "Green card" получил,
да вот адреса нет,
и за письмами ходит на почту.
Лечит в Бронксе
на ладожском льду перемерзшую почку.
А вы знаете -
он никогда не умрет,
автор стихотворения "Коммунисты, вперед!" -
Умирает политика.
Не умирают поэзия, проза.
Вот что, а не политику,
мы называем "Россия", "народ" -
В переулок Лебяжий
вернется когда-нибудь в бронзе из Бронкса
автор стихотворения "Коммунисты, вперед!"
Тоже словечко придумали — шестидесятник!
Можно, конечно, но если уж думать о слове,
Мне предпочтительней что-нибудь вроде «десантник» —
Так, чтобы действие всё же лежало в основе.
Мы не оставили взятого с ходу плацдарма,
В крошеве лет от десанта осталось немного,
Семидесятники жить предлагали бездарно,
Мы — продержались, а нынче приходит подмога.
Шестидесятые — это, как я понимаю,
Пятидесятые: это спектакли и строки,
Это — надежды под стать сорок пятому маю,
Это — закрыты срока на бессрочные сроки.
К шестидесятым, согласно проверенным данным,
Подлым тридцатым пришлось закруглиться впервые.
В мире числительных многое кажется странным,
Все — роковые, и эти и те роковые.
Сороковые прощаются в майском Потсдаме,
Пятидесятые с песней стоят на пороге,
Шестидесятые, что полегли на плацдарме,
Нас обнимают и просят дожить до подмоги.
Мы не оставили самую трудную землю,
Мы продержались, не дали себе зазеваться.
Шестидесятники. Я это имя приемлю.
Восьмидесятником тоже готов называться.
Хорошо, что я в шестидесятых
Не был, не рядился в их парчу.
Я не прочь бы отмотать назад их —
Посмотреть. А жить не захочу.
Вот слетелись интеллектуалы,
Зажужжали, выпили вина,
В тонких пальцах тонкие бокалы
Тонко крутят, нижут имена.
А вокруг девицы роковые,
Знающие только слово «нет»,
Вслушиваются, выгибают выи
И молчат загадочно в ответ.
Загляну в кино Антониони,
В дымную, прокуренную мглу:
Что бы делал я на этом фоне?
Верно, спал бы где-нибудь в углу.
В роковых феминах нет загадок,
Как и в предпочтениях толпы.
Их разврат старателен и гадок,
В большинстве своем они глупы.
Равнодушен к вырезам и перьям,
Не желая разовых наград,
О, с каким бы я высокомерьем
Нюхал их зеленый виноград!
Толстый мальчик, сосланный от нянек
В детский ад, где шум и толкотня, —
Дорогая, я такой ботаник,
Что куда Линнею до меня.
Никаких я истин не отыскивал,
Никогда я горькую не пил, —
Все бы эти листики опрыскивал,
Все бы эти рифмочки лепил.
Дорогая, видишь это фото?
Рассмотри не злясь и не грубя.
Ты на нем увидишь идиота,
С первых дней нашедшего себя.
Сомкнутые брови, как на тризне.
Пухлых щек щетинистый овал.
Видно, что вопрос о смысле жизни
Никогда его не волновал.
Лил зимний дождь что было сил
за окнами на голь деревьев.
Чуть трезвый Толя Передреев
в тот вечер стих мой оценил.
В тот раз дружок Рубцова пил
с другим, малодостойным, другом
и горько плакал, будто стругом
подбитым в омут уходил.
Земля, где гибнут мужики
от гордости, хоть и по пьяни,
то в Вологде, а то в Рязани
редчайшие родит цветки.
По-детски искривляя рот,
твердил он, со слезой и болью,
что сердце сорвано в застолье,
что сам он вскорости умрёт...
Так подлинно он предрекал
свою погибель в плаче этом!
Он очень русским был поэтом -
безмерен грустью, сроком мал.
Он умер дома и во сне.
От сердца. От родимой водки.
Прости же, милый, пир короткий.
Опохмелись последней соткой.
И оживи, на миг, во мне...
Следы умершего поэта,
сполна живущего в стихах,
искал я два последних лета
на жёлтых керченских холмах.
Искал - и в тутошней Боспорской
Элладе, в мареве царей,
и средь засилья бутафорской
туфты завравшихся идей,
средь догм, окрасивших бордюры
Керчи в кроваво-бычий цвет...
Бугрятся идолищ фигуры,
но их, пустопорожних, нет
в фактуре, в плотности столетий,
в контексте полновесных снов,
чья суть и форма - волны, сети,
шаров серебряных улов.
Я здесь нашёл следы Шенгели -
как двадцать пять веков назад,
сады сверкали, шелестели
листвой. И деспот Митридат
всё царство завещал поэту -
развалины дворца, Боспор,
Азов и Понт, и речку Лету
в тени орехов и софор.
Здесь два Георгиевых брата
драконьим срублены хвостом.
А ирод, идол Герострата,
всё тычет каменным перстом
туда, куда и днесь, и присно
нас наши худшие ведут,
где над большой больной отчизной
недужен - на безбожье! - труд...
Но к счастью я узнал, на фоне
всё преломляющих зеркал,
его зрачок! В лепном фронтоне
он кодом Морзе промерцал.
Его маяк снесён полвека,
но он, средь сломов и синкоп,
сберёг канон, виолы деку,
хрусталика калейдоскоп.
Он, знавший - умереть не трудно.
Больней, страшнее - умирать...
Копись и серебрись подспудно
для ловчей сети, рыбья рать!
Мы, два ловца, двойною тенью,
пойдём вдоль древних берегов
к сакральности кровосмешенья,
к Еникале, к преображенью
ковыльных, дымчатых веков...
Вспоминался, как живой, Шенгели
средь горячих стен Ени-Кале.
Над Боспором травы шелестели,
и томилось прошлое в земле -
вычурной монетой султаната,
царскою медалькой храбреца,
флягою германского солдата,
сгрызенной коррозией с торца.
От Ени-Кале до Митридата
тянется зелёном садом Керчь.
В словаре Георгиева лада
по краям дороги - смерть и смерч.
Говорил, что "умереть не страшно",
только вправду "страшно умирать..."
А читалось - время множит брашна
там, где длится моря благодать,
где рождались первою любовью,
верностью до самого конца -
полнозвучье Духа, полнокровье
повести от первого лица,
где всё плавят бронзу с мельхиором
почвы, источающие желчь,
где всё дышит в сини над Боспором
юность, не попорченная мором,
золотистый блик Эллады - Керчь.
Геннадий "Сивак
Поэтессе Вере Михайловне Инбер,
К ее 125-ти летию.
"Смешаться с листьями…
Навеки раствориться
В осенней ясности земель и вод.
И лишь воспоминанье, точно птица,
Пусть обо мне поет…"
Вера Инбер
Смешаться с листьями и улететь,
Да в мыслях грустных раствориться,
О. жизни Бренной круговерть,
Как приходилось в ней крутиться…
Как в окружении зеркал,
Страдала Золушка седая,
Одесский снился ей причал
И дымка нежная морская.
Страдала маленькая Вера,
Но жизнью наслаждалась всласть…
Угрюмо строилась карьера,
Стараньем, ублажая власть…
Кошмарные воспоминанья,
Забытый Беломор канал,
Тяжки душевные страданья,
Как мутной вечности оскал…
Талантом, как звезда блистала,
Но только мучили грехи,
Не возвели ей пьедестала,
Но нам остались все стихи…
Но вряд ли птица пропоет,
Ей по дороге в мир иной,
Вот время движется вперед,
Где все расписано судьбой…
Валентина Ментуз
Зайка, мишка и бычок
и упавший мячик,-
Слушая стихи о них,
Танечки не плачут,
Мудрой Агнии стихи
нами не потеряны.
Не стареют, а живут
с нами в нашем времени.
Всё, что в детстве было нам
бабушками читано,
До сих пор в душе живёт,
внукам перечитано,
Балерина* детских грёз,
детских душ и творчества,
Мудро всё до простоты,
но читать-то хочется!
*Агния Барто училась в гимназии и одновременно в балетной школе. Затем поступила в хореографическое училище и после его окончания в 1924 году в балетную труппу, где работала около года.
Ирина Леви
Жить вопреки идейным плетям
на плечи брошенного груза,
быть ангелом* всего Союза**,
всю жизнь отдать советским детям!
Нести для всех тепло улыбок
как поэтическую лиру,
служить не партии, а миру,
и верить в то, что нет ошибок...
Стихами приближать без масок
коммунистическую эру,
не подвергать сомненьям веру,
что этот строй рожден для сказок…
Себя пожертвовать Отчизне***
как будто та была ей раем…
Так мало мы об этом знаем,
что было ей дано при жизни.
Елена Гутник
Как просто: вот доска.
По ней бычок идёт.
Закончится доска –
Он сразу упадёт.
Мы по доске идём.
Её длина – вся жизнь.
Но мы не упадём –
Мы продолжаем жить.
Живём в своих делах,
Живём в своих стихах.
Там, где доска кончается,
Там память начинается.
Валентин Суховский 3
Анна Третья - Анна Баркова.
(Транссибирка, бирка, барак.)
Говорил один бритоголовый:
«Баба в лагере - дело не ново...
Порешили мы, - только хреново:
"Эту - можно и нужно. Верняк".
Но бодливая эта корова,
та, что в лагерь привез товарняк,
так боднула ногой за два слова,
что согнулся один блатняк,
словно он вопросительный знак.
Справедлива, хотя сурова.
А вот пишет стихи фартово.
Пробивает всю душу. Готова
доходягам читать за так.
Даже повар-кавказец в столовой
что-то сделал ей вроде плова,
называет ее "кунак"!
И стихи ее — аж до рева
пробирают женский барак.
Свой двадцатник уже отсидела.
Как бы нам удлинить ее дело? -
без нее нам не выжить никак».
* * *
Евгений ЕвтушенкоАлександр Межиров
1923 г.р.Автор стихотворения "Коммунисты, вперед!"
расплатился за детство с оладушками и ладушками.
Примерзала буханка к буханке
в раздрызганном кузове на ходу,
когда хлеб Ленинграду
возил посиневший от стужи солдатик
по ладожскому,
не ломавшемуся
от сострадания
льду.
Автор стихотворения "Коммунисты, вперед!"
не учил меня быть коммунистом -
он учил меня Блоку и женщинам,
картам, бильярду, бегам.
Он учил не трясти
пустозвонным стихом, как монистом,
но ценил, как Глазков,
звон стаканов по сталинским кабакам.
Так случилось когда-то,
что он уродился евреем
в нашей издавна нежной к евреям стране.
Не один черносотенец будущий
был им неосторожно лелеем,
как в пеленках,
в страницах,
где были погромы в набросках,
вчерне.
И когда с ним случилось несчастье,
которое может случиться
с каждым, кто за рулем
(упаси нас, Господь!),
то московская чернь -
многомордая алчущая волчица
истерзала клыками
пробитую пулями Гитлера плоть.
Няня Дуня - Россия -
твой мальчик,
седой фантазер невезучий,
подцепляет пластмассовой вилкой в Нью-Йорке
"fast food".
Он в блокаде опять.
Он английский никак не изучит,
и во сне его снова
фашистские танки ползут.
Неподдельные люди
погибали в боях за поддельные истины.
Оказалось, что смертно бессмертие ваше,
Владимир Ильич.
Коммунисты-начальники
стали начальниками-антикоммунистами,
а просто коммунисты подыхают
в Рязани или на Брайтон-бич.
Что же делаешь ты,
мать-и-мачеха Родина,
с нами со всеми?
От словесной войны
только шаг до гражданской войны
"Россияне"
сегодня звучит как "рассеяние".
Мы-
осколки разломанной нами самими страны.
Автор стихотворения "Коммунисты, вперед!",
мой бесценный учитель,
раскрывает -
простите за рифму плохую -
английский самоучитель.
Он "Green card" получил,
да вот адреса нет,
и за письмами ходит на почту.
Лечит в Бронксе
на ладожском льду перемерзшую почку.
А вы знаете -
он никогда не умрет,
автор стихотворения "Коммунисты, вперед!" -
Умирает политика.
Не умирают поэзия, проза.
Вот что, а не политику,
мы называем "Россия", "народ" -
В переулок Лебяжий
вернется когда-нибудь в бронзе из Бронкса
автор стихотворения "Коммунисты, вперед!"
* * *
Дмитрий СухаревШестидесятники
Тоже словечко придумали — шестидесятник!
Можно, конечно, но если уж думать о слове,
Мне предпочтительней что-нибудь вроде «десантник» —
Так, чтобы действие всё же лежало в основе.
Мы не оставили взятого с ходу плацдарма,
В крошеве лет от десанта осталось немного,
Семидесятники жить предлагали бездарно,
Мы — продержались, а нынче приходит подмога.
Шестидесятые — это, как я понимаю,
Пятидесятые: это спектакли и строки,
Это — надежды под стать сорок пятому маю,
Это — закрыты срока на бессрочные сроки.
К шестидесятым, согласно проверенным данным,
Подлым тридцатым пришлось закруглиться впервые.
В мире числительных многое кажется странным,
Все — роковые, и эти и те роковые.
Сороковые прощаются в майском Потсдаме,
Пятидесятые с песней стоят на пороге,
Шестидесятые, что полегли на плацдарме,
Нас обнимают и просят дожить до подмоги.
Мы не оставили самую трудную землю,
Мы продержались, не дали себе зазеваться.
Шестидесятники. Я это имя приемлю.
Восьмидесятником тоже готов называться.
* * *
Автопортрет на фонеДмитрий Быков
Хорошо, что я в шестидесятых
Не был, не рядился в их парчу.
Я не прочь бы отмотать назад их —
Посмотреть. А жить не захочу.
Вот слетелись интеллектуалы,
Зажужжали, выпили вина,
В тонких пальцах тонкие бокалы
Тонко крутят, нижут имена.
А вокруг девицы роковые,
Знающие только слово «нет»,
Вслушиваются, выгибают выи
И молчат загадочно в ответ.
Загляну в кино Антониони,
В дымную, прокуренную мглу:
Что бы делал я на этом фоне?
Верно, спал бы где-нибудь в углу.
В роковых феминах нет загадок,
Как и в предпочтениях толпы.
Их разврат старателен и гадок,
В большинстве своем они глупы.
Равнодушен к вырезам и перьям,
Не желая разовых наград,
О, с каким бы я высокомерьем
Нюхал их зеленый виноград!
Толстый мальчик, сосланный от нянек
В детский ад, где шум и толкотня, —
Дорогая, я такой ботаник,
Что куда Линнею до меня.
Никаких я истин не отыскивал,
Никогда я горькую не пил, —
Все бы эти листики опрыскивал,
Все бы эти рифмочки лепил.
Дорогая, видишь это фото?
Рассмотри не злясь и не грубя.
Ты на нем увидишь идиота,
С первых дней нашедшего себя.
Сомкнутые брови, как на тризне.
Пухлых щек щетинистый овал.
Видно, что вопрос о смысле жизни
Никогда его не волновал.
* * *
Сергей Шелковый Памяти А.Передреева
Лил зимний дождь что было сил
за окнами на голь деревьев.
Чуть трезвый Толя Передреев
в тот вечер стих мой оценил.
В тот раз дружок Рубцова пил
с другим, малодостойным, другом
и горько плакал, будто стругом
подбитым в омут уходил.
Земля, где гибнут мужики
от гордости, хоть и по пьяни,
то в Вологде, а то в Рязани
редчайшие родит цветки.
По-детски искривляя рот,
твердил он, со слезой и болью,
что сердце сорвано в застолье,
что сам он вскорости умрёт...
Так подлинно он предрекал
свою погибель в плаче этом!
Он очень русским был поэтом -
безмерен грустью, сроком мал.
Он умер дома и во сне.
От сердца. От родимой водки.
Прости же, милый, пир короткий.
Опохмелись последней соткой.
И оживи, на миг, во мне...
* * *
Сергей ШелковыйВ Керчи с Георгием Шенгели
Следы умершего поэта,
сполна живущего в стихах,
искал я два последних лета
на жёлтых керченских холмах.
Искал - и в тутошней Боспорской
Элладе, в мареве царей,
и средь засилья бутафорской
туфты завравшихся идей,
средь догм, окрасивших бордюры
Керчи в кроваво-бычий цвет...
Бугрятся идолищ фигуры,
но их, пустопорожних, нет
в фактуре, в плотности столетий,
в контексте полновесных снов,
чья суть и форма - волны, сети,
шаров серебряных улов.
Я здесь нашёл следы Шенгели -
как двадцать пять веков назад,
сады сверкали, шелестели
листвой. И деспот Митридат
всё царство завещал поэту -
развалины дворца, Боспор,
Азов и Понт, и речку Лету
в тени орехов и софор.
Здесь два Георгиевых брата
драконьим срублены хвостом.
А ирод, идол Герострата,
всё тычет каменным перстом
туда, куда и днесь, и присно
нас наши худшие ведут,
где над большой больной отчизной
недужен - на безбожье! - труд...
Но к счастью я узнал, на фоне
всё преломляющих зеркал,
его зрачок! В лепном фронтоне
он кодом Морзе промерцал.
Его маяк снесён полвека,
но он, средь сломов и синкоп,
сберёг канон, виолы деку,
хрусталика калейдоскоп.
Он, знавший - умереть не трудно.
Больней, страшнее - умирать...
Копись и серебрись подспудно
для ловчей сети, рыбья рать!
Мы, два ловца, двойною тенью,
пойдём вдоль древних берегов
к сакральности кровосмешенья,
к Еникале, к преображенью
ковыльных, дымчатых веков...
* * *
Вспоминался, как живой, Шенгели...Сергей Шелковый
Вспоминался, как живой, Шенгели
средь горячих стен Ени-Кале.
Над Боспором травы шелестели,
и томилось прошлое в земле -
вычурной монетой султаната,
царскою медалькой храбреца,
флягою германского солдата,
сгрызенной коррозией с торца.
От Ени-Кале до Митридата
тянется зелёном садом Керчь.
В словаре Георгиева лада
по краям дороги - смерть и смерч.
Говорил, что "умереть не страшно",
только вправду "страшно умирать..."
А читалось - время множит брашна
там, где длится моря благодать,
где рождались первою любовью,
верностью до самого конца -
полнозвучье Духа, полнокровье
повести от первого лица,
где всё плавят бронзу с мельхиором
почвы, источающие желчь,
где всё дышит в сини над Боспором
юность, не попорченная мором,
золотистый блик Эллады - Керчь.
* * *
Поэтессе Вере Михайловне ИнберГеннадий "Сивак
Поэтессе Вере Михайловне Инбер,
К ее 125-ти летию.
"Смешаться с листьями…
Навеки раствориться
В осенней ясности земель и вод.
И лишь воспоминанье, точно птица,
Пусть обо мне поет…"
Вера Инбер
Смешаться с листьями и улететь,
Да в мыслях грустных раствориться,
О. жизни Бренной круговерть,
Как приходилось в ней крутиться…
Как в окружении зеркал,
Страдала Золушка седая,
Одесский снился ей причал
И дымка нежная морская.
Страдала маленькая Вера,
Но жизнью наслаждалась всласть…
Угрюмо строилась карьера,
Стараньем, ублажая власть…
Кошмарные воспоминанья,
Забытый Беломор канал,
Тяжки душевные страданья,
Как мутной вечности оскал…
Талантом, как звезда блистала,
Но только мучили грехи,
Не возвели ей пьедестала,
Но нам остались все стихи…
Но вряд ли птица пропоет,
Ей по дороге в мир иной,
Вот время движется вперед,
Где все расписано судьбой…
* * *
Агнии БартоВалентина Ментуз
Зайка, мишка и бычок
и упавший мячик,-
Слушая стихи о них,
Танечки не плачут,
Мудрой Агнии стихи
нами не потеряны.
Не стареют, а живут
с нами в нашем времени.
Всё, что в детстве было нам
бабушками читано,
До сих пор в душе живёт,
внукам перечитано,
Балерина* детских грёз,
детских душ и творчества,
Мудро всё до простоты,
но читать-то хочется!
*Агния Барто училась в гимназии и одновременно в балетной школе. Затем поступила в хореографическое училище и после его окончания в 1924 году в балетную труппу, где работала около года.
* * *
Памяти Агнии БартоИрина Леви
Жить вопреки идейным плетям
на плечи брошенного груза,
быть ангелом* всего Союза**,
всю жизнь отдать советским детям!
Нести для всех тепло улыбок
как поэтическую лиру,
служить не партии, а миру,
и верить в то, что нет ошибок...
Стихами приближать без масок
коммунистическую эру,
не подвергать сомненьям веру,
что этот строй рожден для сказок…
Себя пожертвовать Отчизне***
как будто та была ей раем…
Так мало мы об этом знаем,
что было ей дано при жизни.
* * *
Агнии БартоЕлена Гутник
Как просто: вот доска.
По ней бычок идёт.
Закончится доска –
Он сразу упадёт.
Мы по доске идём.
Её длина – вся жизнь.
Но мы не упадём –
Мы продолжаем жить.
Живём в своих делах,
Живём в своих стихах.
Там, где доска кончается,
Там память начинается.
* * *
Памяти Глеба ГорбовскогоВалентин Суховский 3
В деревне жил я бабушкой тогда
И вдруг из Питера письмо поэта.
И для меня сверкнула, как звезда,
Надолго я запомнил чувство это.
Мы были не знакомы с ним совсем,
А он одобрил вирши для "Авроры".
Но оказался груз иных поблем,
Хоть о стихах он отзывался здорово.
Из питерских журналов лишь в "Звезде"
Мне дважды удалось публиковаться.
Я был в гостях у Дудина, Азарова, везде,
Пока я смог с Горбовским повстречаться.
В журнале не работал он тогда,
Но всё же вспомнил стих он мой о хлебе.
Молю я Царствие Небесное для Глеба;
Поэта будет нам недоставать.
* * *
Золотая слава столетийВалентин Суховский 3
То, что нам в дни сомнений светит,
То, что в горечи помогает-
Золотая слава столетий,
Благодатная Русь Святая!
Как был в слове велик Есенин,
Хоть полвека его запрещали.
Гумилёва пресветлый гений
Мог ли Горький спасти, едва ли...
И десятки лет не жалели,
Как поэтов, народ в державе
Миллионы крестьян отпели,
Казаков, с их великой славой.
Академиков в тюрьмах избили
И ссылали в Сибирь, стреляли.
А во имя чего загубили
Цвет державы, вожди не знали.
От поэтов остались песни
И звенит для потомков слово.
Кто напишет ещё чудесней?
Но, как прежде, издать не готовы.
Был серебряный век когда-то
Ярким отсветом золотого.
Продолжают пылать закаты,
Только время к поэтам сурово.
* * *

Памяти Ники Турбиной
Александр Олейников 2
"Одиночество - смерти друг"
Н.Турбина
С горных ялтинских призм,
С биографией трагика,
Прилетела к ней жизнь,
Как чужая галактика
И, вселившись, кружила
Забирая покой,
И поэзии сила
Завладела душой.
Это было явленье,
Неожиданность, чудо!
Словно космоса разум
Вошёл в неё грубо.
По ночам очень больно
И мучительно долго
Вырывались стихи
Воспалённо из горла.
Это был чей-то клад
Замурованный в душу.
Это был водопад,
И он рвался наружу.
Было девочке этой,
Что росла у оконца
Очень сложно одной
Со стихами бороться.
Днём до моря бежала
И, упав на колени,
Что-то чайкам шептала
Она, как со сцены.
А ещё Ника знала
Свой путь и спешила,
Во дворе не играла,
Куклам платья не шила,
Прошептав:"Я сама
Чья-то кукла-игрушка".
И сходила с ума
В этом мире бездушном.
В ней - все гроздья созвездий,
В ней - пучина таланта!
Только звёзды - из лезвий,
Только солнце, как рампа.
Прожила она мало,
Ненужная всем,
Пепла горсточкой стала
В свои двадцать семь.
Время точно пришло,
Всё держа на контроле.
Вот и всё!
Это "всё" -
Как лекарство от боли.
У надгробного крова
Панихида отпета.
Вот оно - "Вагоньково",-
Наше место поэтам!
Всё! -
Остались стихи
В чаек плачущем крике,
Да событий штрихи
О трагедии Ники.
Да следы на песке,
Те, что смыты волной,
Да следы на виске,
Да безбрежный покой.
Был и не был поэт,
Никакой Турбиной.
Ничего у нас нет
За пустою душой.
Лишь над ялтинской Яйлой,
Где космос велик,
Слышу я её дальний
Надорванный крик...
Без замасленных штампов
Ко взрослым и детям,
Берегите таланты,
Помогайте поэтам.
На недолгом пути их
Вдали от погоста
Берегите живых,
Это ж, люди, так просто...
Александр Олейников 2
"Одиночество - смерти друг"
Н.Турбина
С горных ялтинских призм,
С биографией трагика,
Прилетела к ней жизнь,
Как чужая галактика
И, вселившись, кружила
Забирая покой,
И поэзии сила
Завладела душой.
Это было явленье,
Неожиданность, чудо!
Словно космоса разум
Вошёл в неё грубо.
По ночам очень больно
И мучительно долго
Вырывались стихи
Воспалённо из горла.
Это был чей-то клад
Замурованный в душу.
Это был водопад,
И он рвался наружу.
Было девочке этой,
Что росла у оконца
Очень сложно одной
Со стихами бороться.
Днём до моря бежала
И, упав на колени,
Что-то чайкам шептала
Она, как со сцены.
А ещё Ника знала
Свой путь и спешила,
Во дворе не играла,
Куклам платья не шила,
Прошептав:"Я сама
Чья-то кукла-игрушка".
И сходила с ума
В этом мире бездушном.
В ней - все гроздья созвездий,
В ней - пучина таланта!
Только звёзды - из лезвий,
Только солнце, как рампа.
Прожила она мало,
Ненужная всем,
Пепла горсточкой стала
В свои двадцать семь.
Время точно пришло,
Всё держа на контроле.
Вот и всё!
Это "всё" -
Как лекарство от боли.
У надгробного крова
Панихида отпета.
Вот оно - "Вагоньково",-
Наше место поэтам!
Всё! -
Остались стихи
В чаек плачущем крике,
Да событий штрихи
О трагедии Ники.
Да следы на песке,
Те, что смыты волной,
Да следы на виске,
Да безбрежный покой.
Был и не был поэт,
Никакой Турбиной.
Ничего у нас нет
За пустою душой.
Лишь над ялтинской Яйлой,
Где космос велик,
Слышу я её дальний
Надорванный крик...
Без замасленных штампов
Ко взрослым и детям,
Берегите таланты,
Помогайте поэтам.
На недолгом пути их
Вдали от погоста
Берегите живых,
Это ж, люди, так просто...
* * *
Памяти Игоря Кобзева
Валентин Суховский 2
Колдуя кистью и пером,
Он обладал волшебным слухом
И жил, как страстью, русских духом,
И все стихи его о том,
Былинном, дорогом, заветном,
Избяно-горничном, поветном
И древнем ладе теремном.
За весью весь, за градом град
Вставала Русь пред взором вещим,
Он светом резал мрак кромешный;
Бываал он, как ребёнок, рад
Напевам ли былинных струн,
Иль русской песни наважденью
Иль древней церкви возрожденью.
Он сам, как вещий Гамаюн
Вещал нам,что придёт пора -
Всей грудью Русь вздохнёт широко.
И в это верил он глубоко,
Как витязь кисти, князь пера.

Валентин Суховский 2
Колдуя кистью и пером,
Он обладал волшебным слухом
И жил, как страстью, русских духом,
И все стихи его о том,
Былинном, дорогом, заветном,
Избяно-горничном, поветном
И древнем ладе теремном.
За весью весь, за градом град
Вставала Русь пред взором вещим,
Он светом резал мрак кромешный;
Бываал он, как ребёнок, рад
Напевам ли былинных струн,
Иль русской песни наважденью
Иль древней церкви возрожденью.
Он сам, как вещий Гамаюн
Вещал нам,что придёт пора -
Всей грудью Русь вздохнёт широко.
И в это верил он глубоко,
Как витязь кисти, князь пера.
* * *

Памяти Николая Дмитриева
Валентин Суховский 2
Учил детей литературе
И сам работником был в ней.
Ушёл от нас, когда культуре,
Казалось, выжить всех трудней.
Навек остался в добром слове,
В любви к лесам, лугам, полям.
Он внешне выглядел сурово,
Душа рвалась к родным краям.
Немало добрых слов о Рузе,
О Балашихе, о Руси.
Перед крушением Союза
Он силы Родине просил,
А сам, от боли надрываясь,
Жалел нищающий народ,
Как и его,душа святая,
Жалеем мы который год.
Как защемило горло болью!
Ему бы жить ещё и жить,
С его неистовой любовью
И даром редкостным дружить.
И лучшим памятником - память,
Поэта строчки наизусть.
Он словом остаётся с нами,
Вливаясь впесенную Русь.
* * *
Инна ЛиснянскаяТатьяна Хатина
Я с тобою не была знакома,
Но распутав кружево стихов...
Нить строки легка и невесома,
Соткана из радуги и снов.
Сколько тайны, радости и света,
И хрустальных колокольцев звон.
В этих строчках целая планета
И крылатость фраз со всех сторон...
Гордая, красивая, влюблённая,
Ненасытна в творчества строка.
Горькою судьбою опалённая –
И сгорают крылья мотылька...
* * *
Николай ДмитриевПамяти А. Передреева
Когда по солнышку, по кругу,
Стихи читали мы друг другу –
Сторонний зритель замечал:
Один закончит чтенье – дружно
Его похвалят. Это нужно,
Чтоб поскорее замолчал.
Всяк про себя своё бормочет,
Ища свой наповальный стих,
Дождется, встанет – и отмочит
В забавном обществе глухих.
...А лучший уплывает первым
По лапкам ёлочным во тьму,
И ход соперничества прерван,
Весь слух – молчавшему, ему.
Высказывайся, человече!
Не унывай, настал твой срок.
Пусть на минутку, не навечно,
Но молкнет глухариный ток.
* * *
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКОПамятники не эмигрируют
Не был мошенником, пакостником,
Гением тоже навряд,
Да вот придётся быть памятником -
Редкий я фрукт говорят.
Горькие или игривые
Сыплют вопросы подчас:
"Правда, что вы эмигрировали?
Что же вы бросили нас?"
Где мне могилу выроют?
Знаю одно - на Руси.
Памятники не эмигрируют,
Как их не поноси.
Как я там буду выглядеть:
Может, как Лаокоон,
Змеями сплетен и выдумок
Намертво оплетён?
Или натешатся шутками,
Если, парадный вполне,
Стану похожим на Жукова -
Грузом на слоноконе.
Маршал, не тошно от тяжести,
Свойственной орденам?
Лучше пришлись бы, мне кажется,
Вам фронтовые сто грамм.
Наши поэты - не ротами,
А в одиночку правы,
Неблагодарную Родину
Тоже спасали, как вы.
Но ненапрасно громили мы
Монументальный быт.
Мраморными и гранитными
Нам не по нраву быть.
В центре застыв прибульваренно,
Высоцкий - он сам не свой,
Слепленный под Гагарина,
Оперный, неживой.
Сколько мы набестолковили.
Даже Булата, как встарь,
Чуточку подмаяковили.
Разве горлан он, главарь?
Сверстники-шестидесятники,
Что ж, мы сошли насовсем,
Смирненько, аккуратненько
На пьедесталы со сцены?
Сможем и без покровительства,
Бремя бессмертья неся,
Как-нибудь разгранититься
Или размраморниться.
Не бронзоветь нам ссутулено,
И с пьедестала во сне
Беллочка Ахмадулина
Весело спрыгнет ко мне.
* * *
Григорий ПоженянПоэты
Оттого и поэтому
веки были красны...
Становились поэтами,
возвратившись с войны.
Чтоб словами нелживыми
день держать в чистоте.
Чтоб, пока ещё живы мы,
живы были и те.
Чтобы не с оговорками,
а, черна добела,
та война была горькою,
раз уж горькой была.
И чужой от отчаяния,
и своей до конца.
Чтоб роднили случайные
девять граммов свинца.
Чтоб последней разлукою,
для тебя, для меня
был последнею мукою
свет победного дня.
Оттого и поэтому
были веки красны...
Становились поэтами,
возвратившись с войны.
В орденах, без копеечки,
начиная с нуля,
шли мы в скошенной кепочке,
по Тверскому пыля.
И не ждали признания,
посыпая, как соль,
на горбушку призвания
неостывшую боль.
* * *
Колесо СудьбыДимитрий Кузнецов
Памяти
Роальда Мандельштама
И хоть служи царю Гороху,
И хоть бунтуй против него,
Рождённым не в свою эпоху
С небес не светит ничего.
Среди житейской панорамы,
Где звёзды мелкие горят,
На нас решительные дамы
И не поднимут гордый взгляд.
Покуда львы и леопарды
Пленяют светских кобылиц,
Нам в тихом сумраке мансарды
Сидеть над ворохом страниц,
Чтоб в неустроенности быта
У грани зыбкой пустоты
Душа была не позабыта,
Вливаясь в ноты и холсты,
Чтоб, загораясь на востоке
Огнями солнечных морей,
Нам поэтические строки
Срывали чувства с якорей.
К последнему земному вздоху
Судьбой проложены пути.
Рождённым не в свою эпоху
Другой эпохи не найти.
______________
* Иллюстрация:
фото–картина "Поэт и Муза",
автор – Марина Соколова.
Есть два вида эмиграции: внешняя и внутренняя. Можно покинуть Родину, выбрав судьбу изгнанника, а можно не покидать её, но жить как бы в ином мире, выдуманном, ирреальном, открытом лишь тебе одному. Эмиграция – всегда форма протеста. И очень важно, чтобы протест этот был нравственно оправдан. Одно дело – быть противником политического строя, совсем другое – искать лучший заработок или даже лучшие условия для творчества. Герой этого очерка не был в числе диссидентов и не искал для себя жизненных благ да и за пределы родного города никуда не уезжал. Тем не менее он эмигрант по самой сути, по строю души.
"Мы живём, под ногами не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны..." – писал в начале 1930–х годов Осип Мандельштам. Жестокую судьбу этого поэта знают все. Но до сих пор мало известны имя и творчество его однофамильца Роальда Мандельштама, родившегося в те же тридцатые годы в бывшей имперской столице, захлёстнутой очередными волнами репрессий.
Мальчику дали странное средневековое имя, которым он очень гордился, но вот жить ему выпало отнюдь не в средние века и не в эпоху Возрождения. Аресты ближайших родственников, война, блокада, голодный послевоенный период – всё это впечатления детства и юности Роальда. Он рос болезненным, слабым ребёнком. Много читал. И хотя, поступив в университет, вынужден был оставить студенческую скамью из–за открывшейся острой формы туберкулёза, всё–таки в гуманитарном плане он был тонко образован. Главным да и, в сущности, единственным делом его недолгой жизни стала поэзия.
Мокрый город бредит о заре,
Опустив в лазоревые лужи
Головы усталых фонарей.
А заря едва–едва колышет
Крыльями на сером полотне,
Осторожно вписывая крыши
В тихо голубеющем окне.
И, как щит, невиданный дотоле,
В гербе тех, что шли издалека,
Зацветает пепельное поле
В золотые розы–облака...
________________
Полностью статью "Поэт не своего времени" и подборку стихов Роальда
Мандельштама можно прочитать в моём "Литературном дневнике":
http://www.stihi.ru/diary/cornett/2017-05-
* * *
Татьяна ШкодинаКоротко...
«А жизнь летит, и жить охота,
И слепо мечутся сердца
Меж оптимизмом идиота
И пессимизмом мудреца»
Игорь Губерман
В четыре строчки уместить
Всю мудрость мира, всю иронию…
Евреем можешь ты не быть,
Но ощути стихов гармонию!
Себя узнаешь ты всегда
Почти в любом прочтенном «гарике»,
С его стихами без труда
Спасешься даже на Титанике!
Ушла жена? Ботинки жмут?
А может трудности в профессии?
Его стихи за пять минут
Прекрасно лечат от депрессии!
Четыре строчки. Вот и всё.
Пусть проживает он в Израиле,
Я славлю русского Басё,
Как до меня еще не славили.
* * *
Озноб. На вопрос Э. АсадоваТатьяна Игнатова 5
«И разве тут может в расчет идти
Какой-то там этикет,
Удобно иль нет к нему подойти,
Знаком ты с ним или нет?»
Эдуард Асадов
Погода не радует. Дождь и грязь.
От сырости бьёт озноб.
Идут пешеходы в такт, торопясь.
А после них хоть потоп!
Видны из шарфов одни носы,
И веером брызги с ног.
Минуту льёт ливень, или часы,
Достаточно, чтоб промок.
Старушка плетётся домой без сил.
Промокшая, зонт забыт.
Мальчишка-студент вдруг к ней подскочил.
А бабушка вся дрожит.
Соседки слова, как набат, в ушах:
"Ты старая, не спеши!
Не верь никому. Иначе - жуть, страх...
Осталось недолго жить."
Улыбка мальчонки. И зонт кривой
Обоих в пути укрыл.
Подумала бабка: "Мне не впервой!
Рискну. Что терять? Ковры?"
До вечера пили горячий чай.
Болтали на перебой.
Ему показался дом, словно рай.
Дала кренделей с собой.
Назавтра починит он ей краны.
Она разъяснит урок...
А с фото на них засмотрится сын,
Тогда не пришедший в срок...
* * *

Владимиру Кострову
Валерий Мухин Псков
Валерий Мухин Псков
Я не могу не верить в силу Слова,
И признаю, что слово – это Бог.
Я полюбил Владимира Кострова
За добрый, задушевный, ясный слог.
Его слова, как тучные колосья
Шумят на ниве спелого стиха.
Я ощущаю их многоголосье,
И душу костромского мужика.
В них аромат цветов и воздух хлебный,
Сопят боровики, забравшись в лог;
Калины куст горчащий и целебный
Немеркнущие ягоды зажёг.
В них женщины живут со светлой грустью,
Облюбовав ветлужские леса;
Глухое костромское захолустье
Из сказок возрождает чудеса.
Слова, заворожённые пейзажем,
Пространством ветровым заражены.
В них русский дух – всесилен и отважен,
И песни наши русские слышны.
Поют их, отражённые теченьем,
Красавицы над русскою рекой.
И на душе – такое облегченье,
Что я вчера заплакал над строкой.
Вот потому и верю в силу Слова,
И соглашусь, что слово – это Бог,
Вот потому Владимира Кострова
Не полюбить я попросту не мог.
ps: 21 сентября замечательному русскому поэту Владимиру Кострову исполняется 83 года. Дорогой Владимир Андреевич весь Псков поздравляет Вас! Желаем крепкого здоровья, счастья и вдохновения. Мы Вас очень любим!
На снимке: Владимир Костров и Валерий Мухин. Псков, июнь, 2010 год.
* * *
Поэту Николаю ТряпкинуТатьяна Иосифовна Уварова
Ой ты Коля, ой ты Тряпкин, гой еси!
Хорошо тебе, поэт, на небеси?
Твои книжки на «развале» продают,
Да почти что их задаром отдают.
Как тюфяк, непросвещенный наш народ
Смотрит мимо да бульварщину берёт.
А я, умница, какая! – посмотри.
Как приду, так покупаю сразу три.
А короче – забираю сразу все.
Раздаю потом поэтам насовсем.
Твоя книжечка бесценна! Что брильянт?!
Ей владеть имеет право лишь талант.
А недавно было чудо из чудес:
«Поздравляю Вас, Христос воскрес» -
Вот такой автограф в книжке я нашла.
К продавщице обратилась: - Чьи дела?
А она мне: - Проходил тут друг один,
Расписался, говорит, поэтов сын.
Вот подарок-то на Пасху для души!
Все досуги с этой книжкой хороши.
Как прижму к щеке обложку, будто рай!
Золотые буквы – Тряпкин Николай.
* * *

Н. И. Тряпкину
Белов Сергей Александрович
Звучат в стихах гармонь и бубен,
Поёт послушная свирель,
И превращает в праздник будни
Тверчанин, златокудрый Лель.
Люблю я песенные строки -
В них клёкот белых лебедей,
Осинников тревожный ропот,
Горящий в небе Водолей.
Вновь вижу милые просторы,
Свиданья вспомню у реки.
Там васильков весёлых взоры
И наливные колоски.
Луна, как ландыш, серебрится,
Печально глядя на луга.
Как малой родины частица
Мне бесконечно дорога!
И я душою деревенский -
Волнует сердце гул шмеля,
Домов бревенчатые стены,
Отцов и прадедов земля.
Прочту "Запев", грущу над "Рожью"*
Какая радость в них и грусть!
И с каждой строчкой мне дороже
Неунывающая Русь.
1992 г.
*"ЗАПЕВ", "РОЖЬ" - стихи Н.И.Тряпкина.
Виктор Кирюшин
Памяти Н.И. Тряпкина
Люди не ходят,
А травы к поэту пришли,
Следуя зову приятельства и простодушья.
Немудрено украшенье могильной земли –
Мята, кипрей, одуванчик да сумка пастушья.
Ты укрощал табуны полудиких словес
И приручал своевольную птицу гагару…
Что там теперь с неулыбчивых видно небес?
Тяжко ль молчания вынести вечную кару?
Крест потемневший доверчиво обнял вьюнок.
В гуще крапивы дождя мимолётного блёстки.
Славный поэту природа соткала венок –
Хвощ да осот,
Сон-трава да кукушкины слёзки.
Люди больны,
Времена безнадёжно глухи.
Я бы и сам не поверил в наивные сказки,
Если б не знал,
Как растут из забвенья стихи –
Чертополох, васильки и анютины глазки.
Светлана Кутепова
Маленькая нездоровая девочка
странного вида,
дочь ярмарочного торговца,
бредит необыкновенными стихами
и полагает, что она -- княжна!..
Маленькая странная девочка
совсем недавно прозрела --
и опрокинутая над нею бездна
хлынула ей прямо в очи,
окончательно лишив её сна!..
И с тех пор она полощет
своё синее небо в голубой реке,
вешает его сушиться на платяной верёвке --
и нанизывает облака на чётки
из самодельных рябиновых бус --
маленькая нелепая девочка,
дочь ярмарочного торговца,
приходящая и уходящая,
когда ей вздумается,
и, не таясь, называющая по имени
радость и грусть!
Оси (к 70 летию И.Бродского) Уткин
Древний Див в вершинах зычно клычет,
серебрятся реки и озера,
нет без унижения величья,
славы нет без крови иль позора,
почему у трёх такое сходство,
и по чьим счетам они платили?
ОСИ: Уткин, Мандельштам и Бродский
навсегда останутся в России,
поминать всегда их будет кто-то
вместе с их глухими палачами,
Коноши туманные болота
с белыми бессонными ночами,
дальнее развертывалось близко,
комары, метели и сугробы,
хлеборобы в клюквенном Норинском
и дальневосточные трущобы,
в самолете камнем падать с неба
и обратно птицей возвращаться,
замирать над горькой крошкой хлеба
и в тифозном мороке смеяться,
там, где сосны подпирают звёзды
и блестят бескрайние разводья,
возвратиться рано или поздно,
даже если ты и неугоден,
у венецианского погоста
каменные створы разомкнутся,
что ж, что на Василиевский остров
не пришлось ко времени вернуться...
ОСИ: Уткин, Мандельштам и Бродский
навсегда останутся с Россией,
почему у всех такое сходство,
и по чьим счетам они платили?
Нет без унижения величья,
славы нет без крови иль позора,
древний Див на вечном древе клычет,
серебрятся реки и озера...
Алексей Филимонов
Плавилась в тигле,
И прорастая,
Всех вас настигла
Бездна простая,
Заново живших
В шестидесятых,
Переступивших
Пепел распятых.
Где они ныне,
Великомуче-
ники гордыни,
Или падучие
Звёзды раскрыли
Лучей хризантемы?
Там они слыли
Осколками темы,
Здесь воплотились,
Не помня печали,
Нам они снились,
И души звучали
Светом призыва
К поруке и братству,
Эхом прилива
К Небесному царству.
Колокол ока,
Он мает, и вея,
Стонет высоко,
Роняя идею
Над синевою,
Над куполом вешним,
Синей звездою
Сияя нездешним.
БОРИС РЫЖИЙ
Жил поэт, да ушел из жизни
Без иллюзий и лишних слез.
Кто-то к гениям его причислил,
В пессимисты кто-то занес.
Ни речей о нем, ни причитаний
Я не слышал – мне только жаль:
Слишком поздно стихи прочитал его,
Руку жившему не пожал.
Как в распаде времен он не выжил –
Это главное, что я смог прочесть,
Под листвою осенней рыжей,
Будто в память его и честь.
Виталий Таволжанский
«Не сотвори себе кумира»
Взывает Божий Сын Христос,
Но ЭТО с сотворенья мира
Для нас всегда большой вопрос
Без Бога мы не до порога;
В него мы верим или нет,
Но в жизни нам нужна подмога:
Артист, писатель иль поэт
Вот я, подростком, с лент магнитных
Услышал песни о горах
В их смысл, как все друзья проникнул,
Их под гитару пел , играл.
Он для меня был просто другом,
Который много песен знал.
Ходили ленты с ним по кругу,
Он временами исчезал.
Потом, когда олимпиада
Пришла в Москву вместе с жарой,
Друзей, поклонников армада
Проводят в мир его иной
Ушёл, но песни возвратились.
Стал популярен, знаменит.
К его стихам вновь обратились -
Гитарный ритм его звенит
Вновь в музыкальных магазинах
Винилопласт идёт в тираж.
Киоски, книжные витрины
Народ берёт на абордаж.
И многим стал он вдруг понятен
Уж не несут ему хулу
А те, кому был неприятен,
С экранов прут ему хвалу
А время шло. Цой своей рифмой
И мелодичностью стиха
Вещает нам гитарным грифом
О человеческих грехах
Ушёл кумир восьмидесятых
Последний песенный герой
Покинул мир наш безвозвратно
Ушёл, но вот пришёл другой.
Я помню в пике девяностых
Вошёл в поэзию Тальков
Своим категоричным словом-
Патриотическим штыком.
Поэтов много было в мире.
Признаюсь вам как на духу,
Что преклоняюсь пред кумиром
И измениться не могу
Его, с надрывом нервным, песню,
О человеке на краю,
В которой слог не очень лестен,
Я принимаю как свою.
Прожил сто жизней он и больше
В тех его песнях и рецепт,
Как без вранья прожить без фальши -
Пребудет с нами сотни лет
Мы все творим себе кумира
Без них не можем дня прожить
Но что бы было с этим миром
Коль было некому творить
Мы б до сих пор в застое жили
Боялись голову поднять
Как при Советах продолжали
На кухне руководство клясть
Дай, Бог, побольше тех кумиров,
Кто смог бы нам открыть глаза.
Не богатели б так банкиры
Глядели б чаще в образа.
Везде закручивают гайки
Спад производства напоказ
Но богатеют олигархи,
И кризис только лишь для нас.
Поэта век бывает краток,
Но как силён его талант.
Мы ждём, когда ж при демократах
Родится песенный гигант
Придёт кумир и демагогов,
Начнёт неистово клеймить
И, как всегда, готов пред Богом
Грехи людские искупить
А мы, ладоши отбивая,
Начнём его во всю хвалить
Боясь всего и не желая
Самим хоть что-то изменить.
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МИХАЛКОВА
Лев Котюков
— А мне докладывали, что вы заикаетесь,
товарищ Михалков… А вы почему-то не заикаетесь…
— С вами, товарищ Сталин, боюсь заикаться!
— И правильно делаете! Продолжайте
в том же духе, товарищ Михалков…
(Из разговора Сталина с Михалковым
во время работы над гимном Советского Союза)
Он был красив и популярен
И своевременно молчал…
И даже сам товарищ Сталин —
Его по-свойски привечал.
Он даже малость заикался,
Но только не с самим вождём.
И никогда не отрекался —
От панегириков о нём.
Но не был он ничьим холопом,
И он, ей-Богу, молодец!
Творец гиганта — дяди Стёпы
И гимна Отчего — творец.
Он не поддерживал бездарных,
И не тиранил никого…
По части женщин популярных —
Мог приударить, ого-го!
И без величья записного,
Звездой геройскою звеня,
По-свойски возле стойки: "Лёва!.." —
В буфете окликал меня…
Он смог навек собой остаться,
Но был, как штык, всегда готов!..
И нам — вот так бы заикаться,
Как заикался Михалков.

Белов Сергей Александрович
Звучат в стихах гармонь и бубен,
Поёт послушная свирель,
И превращает в праздник будни
Тверчанин, златокудрый Лель.
Люблю я песенные строки -
В них клёкот белых лебедей,
Осинников тревожный ропот,
Горящий в небе Водолей.
Вновь вижу милые просторы,
Свиданья вспомню у реки.
Там васильков весёлых взоры
И наливные колоски.
Луна, как ландыш, серебрится,
Печально глядя на луга.
Как малой родины частица
Мне бесконечно дорога!
И я душою деревенский -
Волнует сердце гул шмеля,
Домов бревенчатые стены,
Отцов и прадедов земля.
Прочту "Запев", грущу над "Рожью"*
Какая радость в них и грусть!
И с каждой строчкой мне дороже
Неунывающая Русь.
1992 г.
*"ЗАПЕВ", "РОЖЬ" - стихи Н.И.Тряпкина.
* * *
МОГИЛА ПОЭТАВиктор Кирюшин
Памяти Н.И. Тряпкина
Люди не ходят,
А травы к поэту пришли,
Следуя зову приятельства и простодушья.
Немудрено украшенье могильной земли –
Мята, кипрей, одуванчик да сумка пастушья.
Ты укрощал табуны полудиких словес
И приручал своевольную птицу гагару…
Что там теперь с неулыбчивых видно небес?
Тяжко ль молчания вынести вечную кару?
Крест потемневший доверчиво обнял вьюнок.
В гуще крапивы дождя мимолётного блёстки.
Славный поэту природа соткала венок –
Хвощ да осот,
Сон-трава да кукушкины слёзки.
Люди больны,
Времена безнадёжно глухи.
Я бы и сам не поверил в наивные сказки,
Если б не знал,
Как растут из забвенья стихи –
Чертополох, васильки и анютины глазки.
* * *
Посвящение Ксении НекрасовойСветлана Кутепова
Маленькая нездоровая девочка
странного вида,
дочь ярмарочного торговца,
бредит необыкновенными стихами
и полагает, что она -- княжна!..
Маленькая странная девочка
совсем недавно прозрела --
и опрокинутая над нею бездна
хлынула ей прямо в очи,
окончательно лишив её сна!..
И с тех пор она полощет
своё синее небо в голубой реке,
вешает его сушиться на платяной верёвке --
и нанизывает облака на чётки
из самодельных рябиновых бус --
маленькая нелепая девочка,
дочь ярмарочного торговца,
приходящая и уходящая,
когда ей вздумается,
и, не таясь, называющая по имени
радость и грусть!
* * *
Демидов Александр АлексеевичОси (к 70 летию И.Бродского) Уткин
Древний Див в вершинах зычно клычет,
серебрятся реки и озера,
нет без унижения величья,
славы нет без крови иль позора,
почему у трёх такое сходство,
и по чьим счетам они платили?
ОСИ: Уткин, Мандельштам и Бродский
навсегда останутся в России,
поминать всегда их будет кто-то
вместе с их глухими палачами,
Коноши туманные болота
с белыми бессонными ночами,
дальнее развертывалось близко,
комары, метели и сугробы,
хлеборобы в клюквенном Норинском
и дальневосточные трущобы,
в самолете камнем падать с неба
и обратно птицей возвращаться,
замирать над горькой крошкой хлеба
и в тифозном мороке смеяться,
там, где сосны подпирают звёзды
и блестят бескрайние разводья,
возвратиться рано или поздно,
даже если ты и неугоден,
у венецианского погоста
каменные створы разомкнутся,
что ж, что на Василиевский остров
не пришлось ко времени вернуться...
ОСИ: Уткин, Мандельштам и Бродский
навсегда останутся с Россией,
почему у всех такое сходство,
и по чьим счетам они платили?
Нет без унижения величья,
славы нет без крови иль позора,
древний Див на вечном древе клычет,
серебрятся реки и озера...
* * *
ШестидесантникиАлексей Филимонов
Плавилась в тигле,
И прорастая,
Всех вас настигла
Бездна простая,
Заново живших
В шестидесятых,
Переступивших
Пепел распятых.
Где они ныне,
Великомуче-
ники гордыни,
Или падучие
Звёзды раскрыли
Лучей хризантемы?
Там они слыли
Осколками темы,
Здесь воплотились,
Не помня печали,
Нам они снились,
И души звучали
Светом призыва
К поруке и братству,
Эхом прилива
К Небесному царству.
Колокол ока,
Он мает, и вея,
Стонет высоко,
Роняя идею
Над синевою,
Над куполом вешним,
Синей звездою
Сияя нездешним.
* * *
Виталий АмурскийБОРИС РЫЖИЙ
Жил поэт, да ушел из жизни
Без иллюзий и лишних слез.
Кто-то к гениям его причислил,
В пессимисты кто-то занес.
Ни речей о нем, ни причитаний
Я не слышал – мне только жаль:
Слишком поздно стихи прочитал его,
Руку жившему не пожал.
Как в распаде времен он не выжил –
Это главное, что я смог прочесть,
Под листвою осенней рыжей,
Будто в память его и честь.
* * *
КумирыВиталий Таволжанский
«Не сотвори себе кумира»
Взывает Божий Сын Христос,
Но ЭТО с сотворенья мира
Для нас всегда большой вопрос
Без Бога мы не до порога;
В него мы верим или нет,
Но в жизни нам нужна подмога:
Артист, писатель иль поэт
Вот я, подростком, с лент магнитных
Услышал песни о горах
В их смысл, как все друзья проникнул,
Их под гитару пел , играл.
Он для меня был просто другом,
Который много песен знал.
Ходили ленты с ним по кругу,
Он временами исчезал.
Потом, когда олимпиада
Пришла в Москву вместе с жарой,
Друзей, поклонников армада
Проводят в мир его иной
Ушёл, но песни возвратились.
Стал популярен, знаменит.
К его стихам вновь обратились -
Гитарный ритм его звенит
Вновь в музыкальных магазинах
Винилопласт идёт в тираж.
Киоски, книжные витрины
Народ берёт на абордаж.
И многим стал он вдруг понятен
Уж не несут ему хулу
А те, кому был неприятен,
С экранов прут ему хвалу
А время шло. Цой своей рифмой
И мелодичностью стиха
Вещает нам гитарным грифом
О человеческих грехах
Ушёл кумир восьмидесятых
Последний песенный герой
Покинул мир наш безвозвратно
Ушёл, но вот пришёл другой.
Я помню в пике девяностых
Вошёл в поэзию Тальков
Своим категоричным словом-
Патриотическим штыком.
Поэтов много было в мире.
Признаюсь вам как на духу,
Что преклоняюсь пред кумиром
И измениться не могу
Его, с надрывом нервным, песню,
О человеке на краю,
В которой слог не очень лестен,
Я принимаю как свою.
Прожил сто жизней он и больше
В тех его песнях и рецепт,
Как без вранья прожить без фальши -
Пребудет с нами сотни лет
Мы все творим себе кумира
Без них не можем дня прожить
Но что бы было с этим миром
Коль было некому творить
Мы б до сих пор в застое жили
Боялись голову поднять
Как при Советах продолжали
На кухне руководство клясть
Дай, Бог, побольше тех кумиров,
Кто смог бы нам открыть глаза.
Не богатели б так банкиры
Глядели б чаще в образа.
Везде закручивают гайки
Спад производства напоказ
Но богатеют олигархи,
И кризис только лишь для нас.
Поэта век бывает краток,
Но как силён его талант.
Мы ждём, когда ж при демократах
Родится песенный гигант
Придёт кумир и демагогов,
Начнёт неистово клеймить
И, как всегда, готов пред Богом
Грехи людские искупить
А мы, ладоши отбивая,
Начнём его во всю хвалить
Боясь всего и не желая
Самим хоть что-то изменить.
* * *
ПАМЯТИ БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА И ПОЭТА,ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МИХАЛКОВА
Лев Котюков
— А мне докладывали, что вы заикаетесь,
товарищ Михалков… А вы почему-то не заикаетесь…
— С вами, товарищ Сталин, боюсь заикаться!
— И правильно делаете! Продолжайте
в том же духе, товарищ Михалков…
(Из разговора Сталина с Михалковым
во время работы над гимном Советского Союза)
Он был красив и популярен
И своевременно молчал…
И даже сам товарищ Сталин —
Его по-свойски привечал.
Он даже малость заикался,
Но только не с самим вождём.
И никогда не отрекался —
От панегириков о нём.
Но не был он ничьим холопом,
И он, ей-Богу, молодец!
Творец гиганта — дяди Стёпы
И гимна Отчего — творец.
Он не поддерживал бездарных,
И не тиранил никого…
По части женщин популярных —
Мог приударить, ого-го!
И без величья записного,
Звездой геройскою звеня,
По-свойски возле стойки: "Лёва!.." —
В буфете окликал меня…
Он смог навек собой остаться,
Но был, как штык, всегда готов!..
И нам — вот так бы заикаться,
Как заикался Михалков.
* * *

Колыбельная для Золушки. Новелле Матвеевой
Хелена Фисои
Когда меня дома нет –
Потушен везде свет,
Ждут ложки и брошки, кастрюли меня,
В конфорке спит дух огня.
Когда меня дома нет,
Может пойти снег,
Может настать зима,
Прийти и настать сама.
Вернусь – разбужу свет,
Пройдусь – запоёт снег,
Коль встречу в пути смерть –
Скажу ей: «Тебя нет!»
Зима, что пришла сама,
Погреться придёт к окну.
Ну, здравствуй, моя стена! –
Сижу и чиню струну.
Светло, словно два дня
В единый сплелись день,
Баюкают пять нянь
Мою на полу тень.
Устану – пойду спать,
Пусть мой сторожат сон
Часы, что бегут вспять,
Ручной на стене слон.
Хелена Фисои
Если за печкой не сыщешь меня,
То уж нигде не ищи…
Новелла Матвеева
Когда меня дома нет –
Потушен везде свет,
Ждут ложки и брошки, кастрюли меня,
В конфорке спит дух огня.
Когда меня дома нет,
Может пойти снег,
Может настать зима,
Прийти и настать сама.
Вернусь – разбужу свет,
Пройдусь – запоёт снег,
Коль встречу в пути смерть –
Скажу ей: «Тебя нет!»
Зима, что пришла сама,
Погреться придёт к окну.
Ну, здравствуй, моя стена! –
Сижу и чиню струну.
Светло, словно два дня
В единый сплелись день,
Баюкают пять нянь
Мою на полу тень.
Устану – пойду спать,
Пусть мой сторожат сон
Часы, что бегут вспять,
Ручной на стене слон.
* * *
Шестидесятники
Юрий Манаков
Шестидесятники, вы - клика,
Развинченная молодёжь,
На теле Родины великой
Смертельно-вирусная вошь.
Кривляки. Выкресты, Пижоны.
Тщеславной зависти рабы,
Действительности искривлённой
С гнилыми шляпками грибы.
Как вы любили микрофоны,
И до беспамятства толпу,
На ослеплённых стадионах
В известность торили тропу.
А рядом жили просто люди.
И кто-то даже верил вам...
Вы были той дрянной посудой,
В которой выпарился хам.
Что вам промолвить в заключенье?
-Вы заигрались. И своё
Себе нарыли с упоеньем
Забвение и забытьё!
* * *
Я слушала стихи чужие...Зинаида Дырченко
Слушая Евгения Рейна
Я слушала стихи чужие,
А мне казалось, что свои,
В их строки, как на позывные,
Моих тревог слетались дни.
В них обо мне повествованье,
И ваша жизнь, и жизнь моя,
В них времени существованье,
Его души и бытия.
Скупого солнца только блики,
Поэзии крутой маршрут,
И наших мучеников лики,
И маски, скрывшие иуд.
Сам воздух был для строчек злобен,
Стеснён в удушливой петле,
Но прорастал ростками нобель
В промёрзшей северной земле.
И слово, силой пламенея,
Бесстрашно встало на виду...
И слышится, как наше время
Идет
по ладожскому
льду.
* * *
Г. ГорбовскомуМарина Савченко
Не гением прослыл ты, а собой
На Севере, где остро пахнет морем.
Где небо серое над головой
И пенится причал прибоем.
Здесь непогода, как бальзам,
Она врачует жизни раны.
Санкт-петербуржец бы сказал -
Он выходец из Ленинграда.
Влекут опять на Острова
Воспоминаний сонм, их нет дороже.
В них старая, как мир Нева,
И Гавань с лунною дорожкой.
* * *

Феликсу Чуеву
Фролов Михаил
Пилоты, поставьте по случаю
Памятник Феликсу Чуеву:
Поэту, пропевшему громкую песню
Про звёздное небо, так вами любимое,
С которой душе становилось вдруг тесно
И жгло через синь что-то неповторимое…
Украсьте фундамент красиво о сильных,
Поэтом воспетых , заоблачных жителях.
О тех, кто Россию на клееных крыльях
Поднял до немыслимых круч победителя!
Поставьте пилоты по случаю
Памятник Феликсу Чуеву:
Сто лет авиации – много ли ,мало?
Хватай акварель и альбомы небесные
Заполни все лицами тех кто с начала
Кабины «фарманов» осваивал тесные…
Кого величал Феликс Лётчиком Вечным,
Кто Северный Полюс утюжил немерено,
С фашистом сражался, осколками меченый,
И в космос уйти было первым доверено.
Пилоты, поставьте по случаю
Памятник Феликсу Чуеву!
Серебряный 2
Поэты милостью Господней
Рубцов, Есенин, Башлачёв.
Отпели Русь у преисподней
Прикрытой рваным кумачом.
С ума сошедшие метели
В тот век безудержно мели,
А мы ослепшие, прозрели
Когда умолкли соловьи.
Всех самых лучших к высшей мере...
"Суицидальный" эшафот
Начав с премьеры в "Англетере"
Не закрывал свой главный вход.
Поэтам гениям, судьбою
Проложен свой тернистый путь.
А Русь - заплаканной вдовою
Их всех помянет, как нибудь...
Да с рюмкой горькой под рукою
Вновь погружаясь в свои сны,
Уснёт с печалью вековою
Не пробуждаясь до весны.
Но генетическую память
Живую в песнях Башлачёва,
Рассвет разбудит... И настанет
Закат "эпохи" пугачёвой.
Поэты
По Новосибирской вдоль Сaнкт-Петербурга...
За узкоколейкой – в рощице просвет...
-- Господа, сходитесь! – И ударил гулко
Выстрел невозвратный – и упал поэт...
Возле тихой рощи катится троллейбус.
Искрами контактов вспыхивает мгла...
Может потому Россия все болеет,
Что она Поэта не уберегла.
Клен осиротелый - поминальной свечкой,
А сентябрьский дождик - по Поэту плач...
В этой тихой роще, здесь, за Черной речкой
Мать-Россию в сердце поразил палач.
В веке-людоеде -- новые потери...
Звонкий, как свирель, отплакал. отжурчал
В мрачном "Англетере" -- чудо-"подмастерье"...
Как всегда, народ безмолствовал, молчал.
Не сыскать Пророка, не узнать Мессию
В темном царстве зла - отечестве его...
Научи, Господь, несчастную Россию
Впредь любить живым Поэта своего.
Облака над рощей вдаль плывут небыстро,
А кудрявый парень не стыдится слез.
И уходит Бродский по Новосибирской,
Думал, что вернется, но не довелось...
Не бывает богатых поэтов...
Фролов Михаил
Сгорел планшет. Расплавились очки.
Земля сокрыла ржавые обломки,
но их отроют. И поймут потомки,
что были на земле большевики.
Феликс Чуев
Пилоты, поставьте по случаю
Памятник Феликсу Чуеву:
Поэту, пропевшему громкую песню
Про звёздное небо, так вами любимое,
С которой душе становилось вдруг тесно
И жгло через синь что-то неповторимое…
Украсьте фундамент красиво о сильных,
Поэтом воспетых , заоблачных жителях.
О тех, кто Россию на клееных крыльях
Поднял до немыслимых круч победителя!
Поставьте пилоты по случаю
Памятник Феликсу Чуеву:
Сто лет авиации – много ли ,мало?
Хватай акварель и альбомы небесные
Заполни все лицами тех кто с начала
Кабины «фарманов» осваивал тесные…
Кого величал Феликс Лётчиком Вечным,
Кто Северный Полюс утюжил немерено,
С фашистом сражался, осколками меченый,
И в космос уйти было первым доверено.
Пилоты, поставьте по случаю
Памятник Феликсу Чуеву!
* * *
Русским гениям Есенину, Рубцову, Башлачёву...Серебряный 2
Поэты милостью Господней
Рубцов, Есенин, Башлачёв.
Отпели Русь у преисподней
Прикрытой рваным кумачом.
С ума сошедшие метели
В тот век безудержно мели,
А мы ослепшие, прозрели
Когда умолкли соловьи.
Всех самых лучших к высшей мере...
"Суицидальный" эшафот
Начав с премьеры в "Англетере"
Не закрывал свой главный вход.
Поэтам гениям, судьбою
Проложен свой тернистый путь.
А Русь - заплаканной вдовою
Их всех помянет, как нибудь...
Да с рюмкой горькой под рукою
Вновь погружаясь в свои сны,
Уснёт с печалью вековою
Не пробуждаясь до весны.
Но генетическую память
Живую в песнях Башлачёва,
Рассвет разбудит... И настанет
Закат "эпохи" пугачёвой.
* * *
Семен ВенцимеровПоэты
По Новосибирской вдоль Сaнкт-Петербурга...
За узкоколейкой – в рощице просвет...
-- Господа, сходитесь! – И ударил гулко
Выстрел невозвратный – и упал поэт...
Возле тихой рощи катится троллейбус.
Искрами контактов вспыхивает мгла...
Может потому Россия все болеет,
Что она Поэта не уберегла.
Клен осиротелый - поминальной свечкой,
А сентябрьский дождик - по Поэту плач...
В этой тихой роще, здесь, за Черной речкой
Мать-Россию в сердце поразил палач.
В веке-людоеде -- новые потери...
Звонкий, как свирель, отплакал. отжурчал
В мрачном "Англетере" -- чудо-"подмастерье"...
Как всегда, народ безмолствовал, молчал.
Не сыскать Пророка, не узнать Мессию
В темном царстве зла - отечестве его...
Научи, Господь, несчастную Россию
Впредь любить живым Поэта своего.
Облака над рощей вдаль плывут небыстро,
А кудрявый парень не стыдится слез.
И уходит Бродский по Новосибирской,
Думал, что вернется, но не довелось...
* * *
Семен ВенцимеровНе бывает богатых поэтов...
Не бывает богатых поэтов –
Да когда им и как богатеть
В круговерти высоких сюжетов?
Им бы главное в жизни успеть.
Жил поэт, поцелованный Богом
Вдалеке от мирской суеты.
Обладал незатейливым слогом –
И стихи его были просты.
Но при всей простоте и наиве
Перед теми, кто чутко читал,
Представали немедленно вживе
И цветок и волшебный кристалл.
И душевные струны легонько
Тот поэт невзначай задевал.
Кто-то плакал над строчками горько,
Ну, а кто-то вовсю хохотал.
Вне наград туповатой державы
Он творил свое дело в тиши,
Не искал ни богатства ни славы –
А Всевышний позволил:
-- Пиши –
И, поверьте, что все олигархи,
Даже вместе богатства сложив,
Опечатки не стоят, помарки
В той строке, что века пережив,
Донесет до пра-пра-пра-пра-пра-пра-
Пра-пра-правнуков слово любви.
И простая наивная правда
Встанет с веком чудес виз-а-ви.
Не беда, что творцы небогаты.
В океане житейском они –
Легкокрылые птицы-фрегаты...
Их паренье в душе сохрани...
Владимир Чибриков
Он писал "Коммунисты, вперёд!"-
Поэт Александр Межиров,-
Не страдавший от бед и невзгод
В эпоху товарища Брежнева.
Но что-то смутилась душа,
Взбаламутилась, остервенела,
И отъехал он в США
В тамошний Дом престарелых.
Ему ли, прошедшему фронт,
Ехать к капиталистам,
Где его "Коммунисты, вперёд!"-
Обречённо звучат на английском.
Владимир Чибриков
Луконин был непонятный,
Но всё-таки лауреат.
Дружба поэтов чревата:
Жён уводят, с любовницей спят.
После дерутся и снова, и снова.
А утихомирясь, опять
Водку пьют вместе."Здорово",-
Друг другу они говорят.
А всё остальное - враки.
-Здравствуй, Галочка, я твой...
На переделкинской даче
Евтушенко подал угловой.
Владимир Чибриков
Слова упали со стола,
Разбились строчки вдребезги.
А ты плыла, плыла, плыла,
Как птица, в царство Вечности.
Такая ж хрупкая, как тень,
Как рифма- неоткрытая,
И не качавшая детей,
От спирта кайф ловившая.
И от стихов сходя с ума,
Безумными ночами
Кричала ты:”Не понима…
Не понимаете меня вы.”
Нет, Ника, я смогу понять.
Я- колокол на вервии.
Судьба поэтов умирать
В России раньше времени.
Владимир Чибриков
Что-то в сознании рушится.
Голова о прибытке болит.
Не читают в ”Орбите Пушкина”,
Не интересен им наш пиит.
Народ наш посулами лестными
Заманен на скользкий путь.
Не цитируют Вознесенского,
Евтушенко забыт чуть-чуть.
Выживанием смерд замучен.
А вдруг завтра будет капут?
А ты им – “В орбите Пушкина”,
Во глубине, мол, сибирских руд.
Храните, мол, гордо терпенье…
А братья-то что отдадут?
И висит на трубе Есенин,
Ноги до полу на достают.
Валентин Суховский
Колдуя кистью и пером,
Он обладал волшебным слухом
И жил, как страстью, русских духом,
И все стихи его о том,
Былинном, дорогом, заветном,
Избяно-горничном, поветном
И древнем ладе теремном.
За весью весь, за градом град
Вставала Русь пред взором вещим,
Он светом резал мрак кромешный;
Бываал он, как ребёнок, рад
Напевам ли былинных струн,
Иль русской песни наважденью
Иль древней церкви возрожденью.
Он сам, как вещий Гамаюн
Вещал нам,что придёт пора -
Всей грудью Русь вздохнёт широко.
И в это верил он глубоко,
Как витязь кисти, князь пера.
Александр Липин 3
Качусь привычно - перекатиполе
И свой совсем не ощущаю вес,
Через майдан,
По тракту,
Чистым полем,
Как странник,в мир неведомых чудес.
Пропитан я и пылью и полынью,
Прожарен летом,
Стужей закалён.
Меня, быть может, в прошлом не простили,
Но в будущем...
Да что до тех времён!
Я ощущаю новизну полёта!
Я ветром неприкаянным дышу!
И у меня нелёгкая забота -
Я на себе огромный мир ношу,
Взвалив всю землю на свои колючки,
Как яблоко -
Трудяга серый еж.
Я с верною дорогой неразлучен,
И в руки меня вряд ли ты возьмешь.
Ты любишь розы в капельках хрустальных,
Ты обожаешь мир домашний свой,
Лишённый страсти,
Гнева
И печали
И от того какой-то неживой...
Любимая,
Я обручился с волей,
От солнца золочёный напросвет -
Бродяга вечный,
Перекатиполе,
Наследник скоморошины -
Поэт.
Алексв
Испиши хоть сто тетрадей подряд,
Изливая боль придуманных бед -
Если раны не кровят, не болят,
Значит, брат, ты не поэт, не поэт.
Не насилуй слов, не пачкай листа
Равнодушием непрожитых строк.
Ты не видишь ни креста, ни Христа,
И не пустишь никого в свой мирок.
Там - порядок, нет ни гроз, ни угроз.
Тишь да гладь, теплы печи кирпичи.
Звезды мимо льют свой свет на мороз.
Спит душа, задув огарок свечи.
Не дано тебе дорог и тревог,
Но ты пишешь новый стих, выгнув бровь.
Пряча в строчках о любви между строк
Безнадежную, как смерть, нелюбовь.
Семя мёртвое - не даст колоска...
Но разрезал бритвой ночь чистый луч.
И на дне души проснулась тоска,
Да открыла двери в мир, спрятав ключ.
Изорвал я сто тетрадей подряд,
А мирок мой стал теперь - полный бред.
Заливаю я в себя черный яд,
Душу грешную поранив о свет..
Рви, гитара, нерв-струну! Ставь на край!
Расскажи, как умирать. Или жить.
Эй, Семеныч, ты и мне - наливай...
Друг СашБаш, постой. Оставь докурить!
Путь ваш светел, пусть не мудр и не свят.
Память-памятка ушедшим вослед.
Если не был ты хоть малость распят, -
Значит, брат, ты не поэт, не поэт...
Легче пуха, тяжелей жернова
Дар поэта, божья казнь-благодать.
И ревут аккорды, рвутся слова,-
-Эй, душа! Ты где? А ну-ка, не спать!
Аркадий А Эйдман
На месте - плащ, на месте - гвоздь,
маляр, стена и кисть,
и даже незастывший воск
попал в конец строки.
Строка вела сквозь шелест лет
и дни по ней текли,
чтоб оставался на земле
прекрасный мир земли.
Чтоб были снова гвоздь и плащ,
и капли под плащом,
чтоб свечка воском растеклась
ещё, ещё, ещё...
Антонов Валерий
Нигде в стихах у Юнны Мориц
вы не отыщете рисовки.
Она душой из тех затворниц,
что не подходят для массовки.
Александр Липин 3
Войне глаза оставив в том бою,
Где с жизнью одногодки распрощались,
Писать судьбу он начинал свою,
Как книгу,
Не приемля ложь и жалость.
Он с ними беспощадно воевал,
С лица повязки чёрной не снимая
И с каждым часом - сердцем прозревал,
В глубины Мирозданья проникая...
Никто не верил в то, что он слепой!
И правильно:
Он видел лучше зрячих
Мир - розовый, зелёный, золотой,
Как солнечный неуловимый зайчик.
Любви он упивался красотой,
Её храня в рифмованных созвучьях,
Их посвящая женщине одной,
Которой не встречал на свете лучше.
Его стихи учили назубок,
Записывали в общие тетради,
Как будто запасаясь ими впрок,
Чтоб выстоять в невзгоде и неправде.
И в тех стихах, что и сейчас звучат,
Как будто мелодичные напевы,
Он был Адамом, что прошёл сквозь Ад,
Чтоб яблоко из рук принять у Евы.
Пробил он вечной слепоты пласты
Биеньем сердца своего живого -
Поэт,
Солдат,
Ценитель красоты,
Бессменный часовой родного слова!
Александр Липин 3
Над сонмом торопящихся людей,
Что в небо смотрят,
К сожаленью, редко -
Душа твоя летела, будто змей
Особой махаоновой расцветки.
Её палило солнце свысока.
Её ветра хлестали и ломали.
Душа парила лепестком цветка,
Который часто встретите едва ли.
Её не каждый встречный замечал,
Суровой прозой жизни пригвождённый,
Но, голову поднявший, замечал
И ахал:
- Чудо! -
Чудом просветлённый.
Трепещет шнур гитарною струной,
Серебряною нитью перевитой...
Летит,
Летит,
Летит над всей страной
Душа твоя - прекрасною молитвой!
Елена Бассалык
Мы души насытили хлебом единым... и только лишь хлебом единым...
Порвали в себе ощущение парить и летать...
И мы потеряли всё то, что давалось,.. давалось нам миром ,
Оставив себе лишь тщеславие, заботы... Пустили всё вспять...
Мы мерки отбросили..Mеряем всё этим хлебом единым...
А он ведь не всё , ...он нам шепчет, стараясь мораль подменить....
И то, что казалось нам раньше Триптихом Единым....
Мы на спину бросили,- Так ведь удобней забыть......
Мы души насытили хлебом единым.. И только лишь хлебом единым.....
А дальше то что??? - Ведь бездушие - то неурожай....
О, как это горестно - быть несудимым...И как это сладостно -
Господи,- не осуждай!
Да когда им и как богатеть
В круговерти высоких сюжетов?
Им бы главное в жизни успеть.
Жил поэт, поцелованный Богом
Вдалеке от мирской суеты.
Обладал незатейливым слогом –
И стихи его были просты.
Но при всей простоте и наиве
Перед теми, кто чутко читал,
Представали немедленно вживе
И цветок и волшебный кристалл.
И душевные струны легонько
Тот поэт невзначай задевал.
Кто-то плакал над строчками горько,
Ну, а кто-то вовсю хохотал.
Вне наград туповатой державы
Он творил свое дело в тиши,
Не искал ни богатства ни славы –
А Всевышний позволил:
-- Пиши –
И, поверьте, что все олигархи,
Даже вместе богатства сложив,
Опечатки не стоят, помарки
В той строке, что века пережив,
Донесет до пра-пра-пра-пра-пра-пра-
Пра-пра-правнуков слово любви.
И простая наивная правда
Встанет с веком чудес виз-а-ви.
Не беда, что творцы небогаты.
В океане житейском они –
Легкокрылые птицы-фрегаты...
Их паренье в душе сохрани...
* * *
Коммунисты, вперёд!Владимир Чибриков
Он писал "Коммунисты, вперёд!"-
Поэт Александр Межиров,-
Не страдавший от бед и невзгод
В эпоху товарища Брежнева.
Но что-то смутилась душа,
Взбаламутилась, остервенела,
И отъехал он в США
В тамошний Дом престарелых.
Ему ли, прошедшему фронт,
Ехать к капиталистам,
Где его "Коммунисты, вперёд!"-
Обречённо звучат на английском.
* * *
Луконин был непонятный...Владимир Чибриков
Луконин был непонятный,
Но всё-таки лауреат.
Дружба поэтов чревата:
Жён уводят, с любовницей спят.
После дерутся и снова, и снова.
А утихомирясь, опять
Водку пьют вместе."Здорово",-
Друг другу они говорят.
А всё остальное - враки.
-Здравствуй, Галочка, я твой...
На переделкинской даче
Евтушенко подал угловой.
* * *
Памяти Ники ТурбинойВладимир Чибриков
Слова упали со стола,
Разбились строчки вдребезги.
А ты плыла, плыла, плыла,
Как птица, в царство Вечности.
Такая ж хрупкая, как тень,
Как рифма- неоткрытая,
И не качавшая детей,
От спирта кайф ловившая.
И от стихов сходя с ума,
Безумными ночами
Кричала ты:”Не понима…
Не понимаете меня вы.”
Нет, Ника, я смогу понять.
Я- колокол на вервии.
Судьба поэтов умирать
В России раньше времени.
* * *
В моей Орбите ПушкинаВладимир Чибриков
Что-то в сознании рушится.
Голова о прибытке болит.
Не читают в ”Орбите Пушкина”,
Не интересен им наш пиит.
Народ наш посулами лестными
Заманен на скользкий путь.
Не цитируют Вознесенского,
Евтушенко забыт чуть-чуть.
Выживанием смерд замучен.
А вдруг завтра будет капут?
А ты им – “В орбите Пушкина”,
Во глубине, мол, сибирских руд.
Храните, мол, гордо терпенье…
А братья-то что отдадут?
И висит на трубе Есенин,
Ноги до полу на достают.
* * *
Памяти Игоря КобзеваВалентин Суховский
Колдуя кистью и пером,
Он обладал волшебным слухом
И жил, как страстью, русских духом,
И все стихи его о том,
Былинном, дорогом, заветном,
Избяно-горничном, поветном
И древнем ладе теремном.
За весью весь, за градом град
Вставала Русь пред взором вещим,
Он светом резал мрак кромешный;
Бываал он, как ребёнок, рад
Напевам ли былинных струн,
Иль русской песни наважденью
Иль древней церкви возрожденью.
Он сам, как вещий Гамаюн
Вещал нам,что придёт пора -
Всей грудью Русь вздохнёт широко.
И в это верил он глубоко,
Как витязь кисти, князь пера.
* * *
Наследник скоморошины. А. БашлачёвуАлександр Липин 3
Качусь привычно - перекатиполе
И свой совсем не ощущаю вес,
Через майдан,
По тракту,
Чистым полем,
Как странник,в мир неведомых чудес.
Пропитан я и пылью и полынью,
Прожарен летом,
Стужей закалён.
Меня, быть может, в прошлом не простили,
Но в будущем...
Да что до тех времён!
Я ощущаю новизну полёта!
Я ветром неприкаянным дышу!
И у меня нелёгкая забота -
Я на себе огромный мир ношу,
Взвалив всю землю на свои колючки,
Как яблоко -
Трудяга серый еж.
Я с верною дорогой неразлучен,
И в руки меня вряд ли ты возьмешь.
Ты любишь розы в капельках хрустальных,
Ты обожаешь мир домашний свой,
Лишённый страсти,
Гнева
И печали
И от того какой-то неживой...
Любимая,
Я обручился с волей,
От солнца золочёный напросвет -
Бродяга вечный,
Перекатиполе,
Наследник скоморошины -
Поэт.
* * *
Графоман - Высоцкому и БашлачевуАлексв
Испиши хоть сто тетрадей подряд,
Изливая боль придуманных бед -
Если раны не кровят, не болят,
Значит, брат, ты не поэт, не поэт.
Не насилуй слов, не пачкай листа
Равнодушием непрожитых строк.
Ты не видишь ни креста, ни Христа,
И не пустишь никого в свой мирок.
Там - порядок, нет ни гроз, ни угроз.
Тишь да гладь, теплы печи кирпичи.
Звезды мимо льют свой свет на мороз.
Спит душа, задув огарок свечи.
Не дано тебе дорог и тревог,
Но ты пишешь новый стих, выгнув бровь.
Пряча в строчках о любви между строк
Безнадежную, как смерть, нелюбовь.
Семя мёртвое - не даст колоска...
Но разрезал бритвой ночь чистый луч.
И на дне души проснулась тоска,
Да открыла двери в мир, спрятав ключ.
Изорвал я сто тетрадей подряд,
А мирок мой стал теперь - полный бред.
Заливаю я в себя черный яд,
Душу грешную поранив о свет..
Рви, гитара, нерв-струну! Ставь на край!
Расскажи, как умирать. Или жить.
Эй, Семеныч, ты и мне - наливай...
Друг СашБаш, постой. Оставь докурить!
Путь ваш светел, пусть не мудр и не свят.
Память-памятка ушедшим вослед.
Если не был ты хоть малость распят, -
Значит, брат, ты не поэт, не поэт...
Легче пуха, тяжелей жернова
Дар поэта, божья казнь-благодать.
И ревут аккорды, рвутся слова,-
-Эй, душа! Ты где? А ну-ка, не спать!
* * *
Слушая Новеллу МатвеевуАркадий А Эйдман
На месте - плащ, на месте - гвоздь,
маляр, стена и кисть,
и даже незастывший воск
попал в конец строки.
Строка вела сквозь шелест лет
и дни по ней текли,
чтоб оставался на земле
прекрасный мир земли.
Чтоб были снова гвоздь и плащ,
и капли под плащом,
чтоб свечка воском растеклась
ещё, ещё, ещё...
* * *
Юнна МорицАнтонов Валерий
Нигде в стихах у Юнны Мориц
вы не отыщете рисовки.
Она душой из тех затворниц,
что не подходят для массовки.
* * *
Эдуард АсадовАлександр Липин 3
Войне глаза оставив в том бою,
Где с жизнью одногодки распрощались,
Писать судьбу он начинал свою,
Как книгу,
Не приемля ложь и жалость.
Он с ними беспощадно воевал,
С лица повязки чёрной не снимая
И с каждым часом - сердцем прозревал,
В глубины Мирозданья проникая...
Никто не верил в то, что он слепой!
И правильно:
Он видел лучше зрячих
Мир - розовый, зелёный, золотой,
Как солнечный неуловимый зайчик.
Любви он упивался красотой,
Её храня в рифмованных созвучьях,
Их посвящая женщине одной,
Которой не встречал на свете лучше.
Его стихи учили назубок,
Записывали в общие тетради,
Как будто запасаясь ими впрок,
Чтоб выстоять в невзгоде и неправде.
И в тех стихах, что и сейчас звучат,
Как будто мелодичные напевы,
Он был Адамом, что прошёл сквозь Ад,
Чтоб яблоко из рук принять у Евы.
Пробил он вечной слепоты пласты
Биеньем сердца своего живого -
Поэт,
Солдат,
Ценитель красоты,
Бессменный часовой родного слова!
* * *
Вероника ДолинаАлександр Липин 3
Над сонмом торопящихся людей,
Что в небо смотрят,
К сожаленью, редко -
Душа твоя летела, будто змей
Особой махаоновой расцветки.
Её палило солнце свысока.
Её ветра хлестали и ломали.
Душа парила лепестком цветка,
Который часто встретите едва ли.
Её не каждый встречный замечал,
Суровой прозой жизни пригвождённый,
Но, голову поднявший, замечал
И ахал:
- Чудо! -
Чудом просветлённый.
Трепещет шнур гитарною струной,
Серебряною нитью перевитой...
Летит,
Летит,
Летит над всей страной
Душа твоя - прекрасною молитвой!
* * *
Юрию ЛевитанскомуЕлена Бассалык
"Ты душу насытишь не хлебом единым и хлебом единым,
на миг удивившись почти незаметному их рубежу.
Но ты уже знаешь,
о, как это горестно - быть несудимым,
и ты понимаешь при этом, как сладостно - о, не сужу."(Ю.Левитанский)
Мы души насытили хлебом единым... и только лишь хлебом единым...
Порвали в себе ощущение парить и летать...
И мы потеряли всё то, что давалось,.. давалось нам миром ,
Оставив себе лишь тщеславие, заботы... Пустили всё вспять...
Мы мерки отбросили..Mеряем всё этим хлебом единым...
А он ведь не всё , ...он нам шепчет, стараясь мораль подменить....
И то, что казалось нам раньше Триптихом Единым....
Мы на спину бросили,- Так ведь удобней забыть......
Мы души насытили хлебом единым.. И только лишь хлебом единым.....
А дальше то что??? - Ведь бездушие - то неурожай....
О, как это горестно - быть несудимым...И как это сладостно -
Господи,- не осуждай!
* * *
Марии Николаевне АввакумовойЭрнст Саприцкий
Она из тех, кто все отдаст,
Вплоть до последнего, вплоть до сорочки,
Если полюбит, то не предаст,
Все сделает, дойдя до точки.
Она натура цельная во всем,
Такая не обидит понапрасну,
С такою смело бы пошел вдвоем,
Куда и взводом то ходить опасно.
Свою фамилию такая честно носит,
Хоть не в фамилии и дело,
В беде и в горе никого не бросит,
Хоть все б кругом огнем горело.
Но под рукою черные все нитки…М. Аввакумова
Хотелось вышить мне ковер,
Чтоб он жилище украшал,
Чтоб радовал случайный взор,
Чтобы он музыкой звучал.
Но не было в моем дому
Для этого пригодных ниток –
Священного Завета свиток
Не разгонял ночную тьму.
Что ж тебе досталось?*
Чем осветило путь?
Смертная только усталость
Камнем легла на грудь.
Тяжкие испытанья
Резали душу в кровь,
Горе, тоска, страданье
Пеплом покрыли любовь.
Высылки и изгнанья,
Доля твоя тяжка,
Но не смогли страданья
Душу убить до конца.
*) М. Аввакумова
* * *
Ему еще два года жить...Эрнст Саприцкий
Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою…
Н. Майоров
Ему еще два года жить,
Пока узнает он об этом,
И только времени судить,
Каким бы мог он стать поэтом.
Еще два года впереди –
Это, увы, совсем немного,
И только двадцать позади,
Так коротка его дорога.
Его я трижды пережил,
А мне все кажется, что мало,
А он еще и не любил
По-настоящему, как надо.
Еще не смел и целовать,
Не говоря уж о другом…
Мы много лет спустя прочтем
То, что успел он написать.
* * *
Владимиру Александровичу Луговскому
1901-1957
Эрнст Саприцкий
Это имя хорошо известно,
Я не раз его когда-то слышал,
А теперь читать не интересно,
К сожалению, из моды, вышел.
Нет там вечности. Одни фанфары.
Славит время, бывшее кошмаром.
К счастью, были, были достиженья,
А иначе канул бы совсем,
Силою земного притяженья
Одолел никчемность грубых схем.
Эрнст Саприцкий
Это имя хорошо известно,
Я не раз его когда-то слышал,
А теперь читать не интересно,
К сожалению, из моды, вышел.
Нет там вечности. Одни фанфары.
Славит время, бывшее кошмаром.
К счастью, были, были достиженья,
А иначе канул бы совсем,
Силою земного притяженья
Одолел никчемность грубых схем.
* * *
Юрию Михайловичу КублановскомуЭрнст Саприцкий
Еще не старый человек,
Успел пожить и за границей –
В тоталитарный серый век
Был в колесе излишней спицей.
Прожив в Париже десять лет,
Вкусивши тамошней свободы,
Вернулся. Стал ему тот свет,
Как шляпа устаревшей моды.
Свободы много и у нас,
И дым отечества все ж сладок
Тому, лиризм в ком не угас
И на чужое кто не падок.
И вот взошла его звезда
На современном небосклоне,
Теперь другие времена –
Писать, что хочешь, каждый волен.
Поэтов он теперь судья,
Решая быть или не быть,
Не раз писал ему и я,
Не смог, однако, угодить…
* * *
Он так хотел вернуться...
Эрнст Саприцкий
Я скоро вернусь,
Но зачем ты прикрыла
Глаза голубые?
Рассвет…
Б. Костров
Он так хотел вернуться,
Писал, как заклинал…
Снаряды рядом рвутся.
На поле боя пал.
Погиб в расцвете лет,
А как хотел домой!
На площади чужой
Лежит теперь поэт.
Чужой кругом народ,
Далекие столицы,
Никто не подойдет
К могиле поклониться.
Он так хотел вернуться,
Надеялся на это,
Но лишь стихи остались
В наследство от поэта.
Эрнст Саприцкий
Я скоро вернусь,
Но зачем ты прикрыла
Глаза голубые?
Рассвет…
Б. Костров
Он так хотел вернуться,
Писал, как заклинал…
Снаряды рядом рвутся.
На поле боя пал.
Погиб в расцвете лет,
А как хотел домой!
На площади чужой
Лежит теперь поэт.
Чужой кругом народ,
Далекие столицы,
Никто не подойдет
К могиле поклониться.
Он так хотел вернуться,
Надеялся на это,
Но лишь стихи остались
В наследство от поэта.
* * *
Арону Иосифовичу Копштейну
1915-1940
Эрнст Саприцкий
Мы с тобой простились на перроне,
Я уехал в дальние края.
У меня в «смертельном» медальоне
Значится фамилия твоя…
А. Копштейн
Эрнст Саприцкий
Мы с тобой простились на перроне,
Я уехал в дальние края.
У меня в «смертельном» медальоне
Значится фамилия твоя…
А. Копштейн
Он рано начал бедовать –
Он потерял отца и мать,
И сам прожил он очень мало –
Чужая пуля помешала.
Стихи остались от него,
Но жаль его мне самого.
Погиб, товарища спася.
Наверно, где-то двери рая
Открылись медленно пред ним,
И затворились. Только дым
От серых финских облаков
Повис над чащею лесов.
Любимая его ждала,
Ей официально написали,
Когда фамилию узнали,
«Смертельный» медальон прочтя.
* * *
Владимиру Григорьевичу ГордейчевуЭрнст Саприцкий
Я из тех, кто растит зеленя,
кто пласты поднимает сырые.
И фамилии нет у меня.
Я – провинция. Периферия.
Гордейчев
Он патриот в хорошем смысле слова,
Не из «квасных», которых не люблю,
Которые всегда на все готовы,
Чтоб только глупость оправдать свою.
Быть может, юмора чуть не хватает,
Прямолинеен, тонкости в нем нет,
Но главное он все же понимает,
Хлебнул немало трудностей и бед.
Он жил в провинции, в глубинке,
Детей литературе там учил
И в души их, как в тот суглинок,
Он зерна мудрости вложил.
Он жил в провинции, среди народа,
Не рвался он оттуда никуда,
Ему близка российская природа
И не нужны большие города.
Но на таких-то и стоит Россия,
Она сильна провинцией своей,
И очень много сможем мы осилить,
Если по совести поможем ей.
* * *
Инне Анатольевне Гофф 1928-1991,
автору стихов знаменитой песни
Эрнст Саприцкий
Лишь была бы только память,
И она осталась –
В русском поле колоском
По ветру качалась.
Лишь была бы только память…
Песня сберегла...
В русском поле, на приволье
Девочка росла.
Лишь была бы только память,
И она осталась.
И в поэзии российской
Непозатерялась.
Эрнст Саприцкий
Лишь была бы только память,
И она осталась –
В русском поле колоском
По ветру качалась.
Лишь была бы только память…
Песня сберегла...
В русском поле, на приволье
Девочка росла.
Лишь была бы только память,
И она осталась.
И в поэзии российской
Непозатерялась.
* * *
Евгению Михайловичу Винокурову
1925-1993
Эрнст Саприцкий
Мертвец лежал недвижно,
глядя,
Как медлил коршун вдалеке…
И было выколото
«Надя»
На обескровленной руке…
Е. Винокуров
Эрнст Саприцкий
Мертвец лежал недвижно,
глядя,
Как медлил коршун вдалеке…
И было выколото
«Надя»
На обескровленной руке…
Е. Винокуров
Его все ценят за ребят,
Лежащих за рекой,
А мне дороже тот солдат,
Что в поле неживой.
А мне дороже незабудки,
Цвели что около лица,
И синеватая наколка,
Что на руке у мертвеца.
Нельзя такое сочинить,
Такое надо увидать,
Такое надо пережить,
Чтобы стихом тем обвинить
Всех тех, кто любит воевать.
* * *
Константину Яковлевичу ВаншенкинуЭрнст Саприцкий
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно…
К. Ваншенкин
Он написал бессмертные слова,
Он жизнь любил, хоть было то не ново,
Но не одни туманились глаза,
Когда звучала эта песня снова.
И если б больше ничего не написал,
Лишь этого б стиха хватило,
Чтоб в сотню первую поэтов он попал,
Что были в прошлом у России.
И рядом с ним его жена,
России тонкий колосок,
Звезда погасла… и одна
Ложится роза не песок.
Спасибо вам, мои родные,
Вы – воплощение любви,
С вас начинается Россия,
С таких ей преданных, как вы.
* * *
Новелле Николаевне МатвеевойЭрнст Саприцкий
Ее назвал Ассолью кто-то,
Из книжек Александра Грина,
Но вот берет меня зевота
И прохожу спокойно мимо.
Быть может, несколько стихов,
Все остальное не по мне.
Не ночевала там любовь,
Хоть и стоят цветы в окне.
* * *
Так он писал за год, за месяц ...
Эрнст Саприцкий
Лежит матрос на дне песчаном,
Во тьме зелено-голубой…
А. Лебедев
Так он писал за год, за месяц
Реальной гибели всерьез,
Когда был жив, быть может, весел,
И вот реченое сбылось…
Так он писал…О смерти думал,
Но все же как хотелось жить!
Никто б нарочно не придумал
И зря не стал бы ворожить.
Так он писал…Судьба поэта!
И Лермонтов о том писал –
Как он погибнет жарким летом,
И свою гибель угадал.
Лежит матрос на дне песчаном,
Во тьме зелено-голубой…
А. Лебедев
Так он писал за год, за месяц
Реальной гибели всерьез,
Когда был жив, быть может, весел,
И вот реченое сбылось…
Так он писал…О смерти думал,
Но все же как хотелось жить!
Никто б нарочно не придумал
И зря не стал бы ворожить.
Так он писал…Судьба поэта!
И Лермонтов о том писал –
Как он погибнет жарким летом,
И свою гибель угадал.
* * *
Предвоенные годы, Молодой лейтенант...Эрнст Саприцкий
Переживи внезапный холод,
Полгода замуж не спеши,
А я останусь вечно молод
Там, в тайниках твоей души…
А. Лебедев
Предвоенные годы,
Молодой лейтенант,
За плечами – Кронштадт,
Впереди – Ленинград.
Автор сборников первых
Из хороших стихов,
И железные нервы
У морских штурманов.
Впереди оставался
Всего год с небольшим,
А в стихах представлялся
Уж сражений тех дым.
Был обычный, походный
У подводников день,
Но строки похоронной
Их накрыла уж тень.
Их плавучая мина
Поджидала в пути,
Не прошла она мимо,
Не дала им пройти.
И погибли все с честью,
И не спасся никто,
Много в море том места
Для подводных крестов.
А стихи продолжали
Свою жизнь на земле,
Они весть о тех слали,
Кто погиб на войне.
* * *
Наталье Васильевне Крандиевской-Толстой
1888-1963
Эрнст Саприцкий
Себя сумела отстоять,
Себя сумела сохранить,
И не прервалась жизни нить –
Вновь начала она писать.
Она Отчизне подарила
Троих талантливых детей,
Она под сердцем их носила,
Как носят сотни матерей.
Не стала жизнь ее осечкой,
Ее достойно прожила,
Я перед Богом ставлю свечку
За добрые ее дела.
---
Не истеричка. Без претензий.
Не величавая мадонна.
А просто женщина со вкусом,
К тому же мать, хозяйка дома.
Очаровательный портрет,
Дает же Бог такие лица,
Она к тому же и поэт,
Такой женою бы гордиться,
Такую вечно бы любить,
Но не дано счастливой быть…
Эрнст Саприцкий
Себя сумела отстоять,
Себя сумела сохранить,
И не прервалась жизни нить –
Вновь начала она писать.
Она Отчизне подарила
Троих талантливых детей,
Она под сердцем их носила,
Как носят сотни матерей.
Не стала жизнь ее осечкой,
Ее достойно прожила,
Я перед Богом ставлю свечку
За добрые ее дела.
---
Не истеричка. Без претензий.
Не величавая мадонна.
А просто женщина со вкусом,
К тому же мать, хозяйка дома.
Очаровательный портрет,
Дает же Бог такие лица,
Она к тому же и поэт,
Такой женою бы гордиться,
Такую вечно бы любить,
Но не дано счастливой быть…
* * *
Юрию Михайловичу КублановскомуЭрнст Саприцкий
Еще не старый человек,
Успел пожить и за границей –
В тоталитарный серый век
Был в колесе излишней спицей.
Прожив в Париже десять лет,
Вкусивши тамошней свободы,
Вернулся. Стал ему тот свет,
Как шляпа устаревшей моды.
Свободы много и у нас,
И дым отечества все ж сладок
Тому, лиризм в ком не угас
И на чужое кто не падок.
И вот взошла его звезда
На современном небосклоне,
Теперь другие времена –
Писать, что хочешь, каждый волен.
Поэтов он теперь судья,
Решая быть или не быть,
Не раз писал ему и я,
Не смог, однако, угодить…
* * *
Светлане Александровне КузнецовойЭрнст Саприцкий
В ней нахожу Цветаевские ноты,
Ахматовой в ней нахожу печаль,
Быть может, кое-где длинноты
Я нахожу, и то едва ль.
--
Прядется древняя основа
Ее стихов из волокна,
Что входит теперь в моду снова,
Чем Русь всегда была красна.
Она на Севере родилась,
Знакомо слово ей – пурга,
И к ней поэзия пробилась
Сквозь непролазные снега.
И к нам проталинкой пришли
Ее стихи, сквозь мерзлоту,
С собой нежность принесли
И доброту.
* * *
Диомиду Леонидовичу Костюрину
1945-1987
Эрнст Саприцкий
Трагически погиб при невыясненных обстоятельствах.
И вот еще один погиб
При обстоятельствах…
То перебор иль перегиб,
Иль признак качества?
Ведь гибнут дельные поэты,
Серость живет,
Она надеется при этом
Достичь высот.
Живет спокойно и цветет,
Как маков цвет,
Живет и жить не устает,
Хоть сотню лет.
Живет и пыжится во весь
Свой мелкий рост,
На что надеется, Бог весть,
Но строит мост,
Фундаментальный, на века, как пьедестал,
Ну а талантливый поэт просто устал.
Устал от жизни, от невзгод
И сводит с этой жизнью счет.
Я не оправдываю, нет,
Мне просто жаль –
Погиб талантливый поэт,
Погиб в расцвете самом лет,
Вот где печаль!
Эрнст Саприцкий
Трагически погиб при невыясненных обстоятельствах.
И вот еще один погиб
При обстоятельствах…
То перебор иль перегиб,
Иль признак качества?
Ведь гибнут дельные поэты,
Серость живет,
Она надеется при этом
Достичь высот.
Живет спокойно и цветет,
Как маков цвет,
Живет и жить не устает,
Хоть сотню лет.
Живет и пыжится во весь
Свой мелкий рост,
На что надеется, Бог весть,
Но строит мост,
Фундаментальный, на века, как пьедестал,
Ну а талантливый поэт просто устал.
Устал от жизни, от невзгод
И сводит с этой жизнью счет.
Я не оправдываю, нет,
Мне просто жаль –
Погиб талантливый поэт,
Погиб в расцвете самом лет,
Вот где печаль!
* * *
Борису Алексеевичу Кострову
1912-1945
Эрнст Саприцкий
Я скоро вернусь,
Но зачем ты прикрыла
Глаза голубые?
Рассвет…
Б. Костров
Он так хотел вернуться,
Писал, как заклинал…
Снаряды рядом рвутся.
На поле боя пал.
Погиб в расцвете лет,
А как хотел домой!
На площади чужой
Лежит теперь поэт.
Чужой кругом народ,
Далекие столицы,
Никто не подойдет
К могиле поклониться.
Он так хотел вернуться,
Надеялся на это,
Но лишь стихи остались
В наследство от поэта.
Эрнст Саприцкий
Я скоро вернусь,
Но зачем ты прикрыла
Глаза голубые?
Рассвет…
Б. Костров
Он так хотел вернуться,
Писал, как заклинал…
Снаряды рядом рвутся.
На поле боя пал.
Погиб в расцвете лет,
А как хотел домой!
На площади чужой
Лежит теперь поэт.
Чужой кругом народ,
Далекие столицы,
Никто не подойдет
К могиле поклониться.
Он так хотел вернуться,
Надеялся на это,
Но лишь стихи остались
В наследство от поэта.
* * *
Сергею Ивановичу КоротковуЭрнст Саприцкий
Утоли его печали,
Разум бедный успокой,
Чтобы птицы не кричали
Над измученной душой.
Утоли его печали
И продолжи его путь,
Пусть он вьется, как вначале,
Ковыляет как-нибудь.
Утоли его печали,
Утоли также и дух,
И пусть слышит, как в начале,
Музыкальный его слух.
* * *
Пимену Ивановичу Карпову
1884-1963
Эрнст Саприцкий
Он пел землю обетованную,
Но не Израиль, нет,
Россию пел он окаянную
В преддверье ее бед.
Была пропитая, избитая
Его родимая страна,
Снегами белыми укрытая,
Но для него всегда одна.
Путями древними пройденная,
Летом лежащая в раю,
Зимой холодная, студеная,
И непреклонная в бою.
Была искромсана, крещенная
Штыками белыми и красными,
Истоптана трава зеленая,
Но оказалось все напрасно.
Эрнст Саприцкий
Он пел землю обетованную,
Но не Израиль, нет,
Россию пел он окаянную
В преддверье ее бед.
Была пропитая, избитая
Его родимая страна,
Снегами белыми укрытая,
Но для него всегда одна.
Путями древними пройденная,
Летом лежащая в раю,
Зимой холодная, студеная,
И непреклонная в бою.
Была искромсана, крещенная
Штыками белыми и красными,
Истоптана трава зеленая,
Но оказалось все напрасно.
* * *
Михаилу Александровичу Дудину
1916-1994
Эрнст Саприцкий
Хоть не был мастером большим,
Был не плохим поэтом,
За это, собственно, ценим,
Все остальное – в Лету.
И премии, и ордена,
И все такое прочее…
И лишь поэзия одна
Была любимой дочерью.
И премии, и ордена –
Все это просто пена,
И лишь поэзия одна,
Одна она не тленна.
---
Он жил у времени в плену,
Он жил со временем в ладу.
Он, правда, честно воевал,
Перед начальством же молчал,
Не обличал, а защищал,
За что и «генералом» стал.
Он жил со временем в ладу,
Всего добился,
Он сотню книжек написал,
Знать, не ленился.
Он сотню книжек написал –
По паре в год.
Я их, конечно, не читал,
Переживет.
Я их, конечно, не читал.
Зачем мне это?
Достаточно и трех стихов,
Чтоб стать поэтом.
Эрнст Саприцкий
Хоть не был мастером большим,
Был не плохим поэтом,
За это, собственно, ценим,
Все остальное – в Лету.
И премии, и ордена,
И все такое прочее…
И лишь поэзия одна
Была любимой дочерью.
И премии, и ордена –
Все это просто пена,
И лишь поэзия одна,
Одна она не тленна.
---
Он жил у времени в плену,
Он жил со временем в ладу.
Он, правда, честно воевал,
Перед начальством же молчал,
Не обличал, а защищал,
За что и «генералом» стал.
Он жил со временем в ладу,
Всего добился,
Он сотню книжек написал,
Знать, не ленился.
Он сотню книжек написал –
По паре в год.
Я их, конечно, не читал,
Переживет.
Я их, конечно, не читал.
Зачем мне это?
Достаточно и трех стихов,
Чтоб стать поэтом.
* * *
Андрею Дмитриевичу ДементьевуЭрнст Саприцкий
В дни «Юности» стал знаменит,
Поднявши уровень журнала,
И до сих пор он не забыт,
Хоть и не та теперь уж слава.
---
А мне приснился сон,
Что Пушкин был спасен…
Андрей Дементьев
Друзьями или Богом
От пули заслонен,
Он жил потом бы долго…
Такой прекрасный сон.
Не только жил бы долго,
Он больше б написал
И, может быть, дорогу
Другую подсказал.
Ведь все от бескультурья,
Отсюда все напасти…
Эх, пуля, злая пуля,
Российское несчастье!
* * *
Николаю Леопольдовичу Брауну
1902-1975
Эрнст Саприцкий
В его судьбе причудливо сплелись
Есенин, Маяковский, Пастернак,
Как будто свыше дан был знак –
Пиши про них и не ленись.
Он вынес тело бедного поэта,
Наверное, имел на это право,
И написал потом в стихах про это,
Бессмертную воспевши его славу.
И двум другим стихи он посвятил,
Развеяв миф об их глухой вражде,
Тем истину еще раз подтвердил,
Что были они равными себе.
Он их намного пережил,
Видать кукушка куковала,
Стихи друзей боготворил,
Ставши связующим началом.
Эрнст Саприцкий
В его судьбе причудливо сплелись
Есенин, Маяковский, Пастернак,
Как будто свыше дан был знак –
Пиши про них и не ленись.
Он вынес тело бедного поэта,
Наверное, имел на это право,
И написал потом в стихах про это,
Бессмертную воспевши его славу.
И двум другим стихи он посвятил,
Развеяв миф об их глухой вражде,
Тем истину еще раз подтвердил,
Что были они равными себе.
Он их намного пережил,
Видать кукушка куковала,
Стихи друзей боготворил,
Ставши связующим началом.
* * *
Всеволоду Николаевичу Лободе
1915-1944
Эрнст Саприцкий
И вот к победе прямиком
За ротой рота,
То по-пластунски,
то бегом
Пошла пехота
В. Лобода. «Начало»
Всего одно стихотворенье
Лежит передо мной.
Их было б больше, но погиб
Он на передовой.
И вот, как памятник поэту,
Как славы обелиск,
Оно не потонуло в Лете
И украшает лист.
Поэт назвал его – «Начало»,
О многом, видимо, мечтал,
Но лишь в посмертье зазвучало,
Надгробным памятником стало,
Чего он даже не узнал.
Уже немного оставалось,
Заря победы занималась,
Когда он написал «Начало».
Судьба иначе посчитала –
Он смертью храбрых пал.
Эрнст Саприцкий
И вот к победе прямиком
За ротой рота,
То по-пластунски,
то бегом
Пошла пехота
В. Лобода. «Начало»
Всего одно стихотворенье
Лежит передо мной.
Их было б больше, но погиб
Он на передовой.
И вот, как памятник поэту,
Как славы обелиск,
Оно не потонуло в Лете
И украшает лист.
Поэт назвал его – «Начало»,
О многом, видимо, мечтал,
Но лишь в посмертье зазвучало,
Надгробным памятником стало,
Чего он даже не узнал.
Уже немного оставалось,
Заря победы занималась,
Когда он написал «Начало».
Судьба иначе посчитала –
Он смертью храбрых пал.
* * *
Инне Львовне ЛиснянскойЭрнст Саприцкий
Жена С. Липкина. В 1979 оба вышли из Союза писателей.
Как должно Божьим сиротам,
Не спорю я с судьбой,
Ни с Каином, ни с Иродом
И ни сама с собой…
И. Лиснянская
Чего не хватишься, все «нет» –
Ни в партии, ни в комсомоле,
Наград и званий тоже нет,
Поэт по Божьей воле.
Она не спорила с судьбой,
В смирении жила,
В согласии сама с собой
И в неприятье зла.
Она не спорила с судьбой,
Она лишь власть не признавала,
Она ее не замечала,
Как будто не было такой.
И власть ей мстила, как умела,
Но все ж ее не одолела.
В конце концов, ее признали
И даже премию ей дали.
Ни в партии, ни в комсомоле,
Наград и званий тоже нет,
Поэт по Божьей воле.
Она не спорила с судьбой,
В смирении жила,
В согласии сама с собой
И в неприятье зла.
Она не спорила с судьбой,
Она лишь власть не признавала,
Она ее не замечала,
Как будто не было такой.
И власть ей мстила, как умела,
Но все ж ее не одолела.
В конце концов, ее признали
И даже премию ей дали.
* * *
Семену Израилевичу ЛипкинуЭрнст Саприцкий
Расскажи о радости и горе,
Много лет ты прожил на земле,
Расскажи нам о земной юдоли,
Расскажи о собственной судьбе.
Расскажи про скромного портного,
Что не падал духом никогда,
Как бы ни была судьба сурова
И какая б ни была беда.
Расскажи о племени нам И,
О судьбе великого народа,
Подарившем истинного Бога
Всем народам матери Земли.
Переводчик с «малых языков»
И защитник высланных народов,
Написал немало ты стихов
Сверх твоих прекрасных переводов.
И достигнув возраста пророка,
Расскажи, что в будущем нас ждет,
Ждать беды нам с юга иль востока
И куда Господь нас приведет?
* * *
Бенедикту Константиновичу Наумовичу Лившицу
1887-1938
Эрнст Саприцкий
Когда тебя петлей смертельной
Рубеж последний захлестнет…
Б. Лившиц
И вот его рубеж последний
Настигнул через двадцать лет,
И по статье, статье расстрельной
Безвинно осужден поэт.
Еще один в огромном списке
Бесследно сгинувших во тьме,
Статья «Без права переписки»
Была лукавою вдвойне.
Она надежду подавала –
Вернется узник, может быть,
И список вроде уменьшала,
Зачем, мол, правду говорить
Он призывал,…но рев звериный
Ответом был на тот призыв,
Нельзя признать наполовину,
Власть не оценит твой порыв.
И не таких она ломала,
А тут – поэт-интеллигент,
Она статью ему впаяла,
И вот уже поэта нет.
Что ж, он поверил новой власти,
Он не уехал, хоть и мог,
И оказался в хищной пасти –
Таков печальный был итог.
Эрнст Саприцкий
Когда тебя петлей смертельной
Рубеж последний захлестнет…
Б. Лившиц
И вот его рубеж последний
Настигнул через двадцать лет,
И по статье, статье расстрельной
Безвинно осужден поэт.
Еще один в огромном списке
Бесследно сгинувших во тьме,
Статья «Без права переписки»
Была лукавою вдвойне.
Она надежду подавала –
Вернется узник, может быть,
И список вроде уменьшала,
Зачем, мол, правду говорить
Он призывал,…но рев звериный
Ответом был на тот призыв,
Нельзя признать наполовину,
Власть не оценит твой порыв.
И не таких она ломала,
А тут – поэт-интеллигент,
Она статью ему впаяла,
И вот уже поэта нет.
Что ж, он поверил новой власти,
Он не уехал, хоть и мог,
И оказался в хищной пасти –
Таков печальный был итог.
* * *
Юрию Давыдовичу Левитанскому
1922-1996
Эрнст Саприцкий
Любил, учился, воевал…
Он две войны прошел,
Он много книжек написал
И признанным ушел.
Был настоящий человек,
Военного закала,
Умел шутить. В наш смурый век
Нам это помогало.
Мы пели песни на стихи,
Что он нам подарил,
Он с молодежью часто был,
Он много с ней дружил.
Стихов я длинных не люблю,
Но вот стих о рояле
Звучит, как музыка в мозгу,
А вы его читали?
Прочтите. Образность его
Вас остро поразит…
Пока рояль этот открыт
И музыка звучит.
Стихи, что мастером написаны
Бывают плотью и душой,
Бывают праздничной симфонией,
Какой-то музыкой большой.
Эрнст Саприцкий
«Коммунисты, вперед!», – написал,
«Коммунисты, вперед!»,
И в Америку вскоре сбежал.
Вот такой поворот.
На жестокой войне воевал,
Погибал средь болот,
И в Америку вскоре сбежал.
Кто такое поймет?
Что в Америке он написал,
Чем живет?
Был хороший поэт, а кем стал?
По своим артиллерия бьет.
---
В Москве он жил и вырос,
И Родину любил,
Но вот на Дальний Запад
Уехать он решил.
Он воевал на фронте,
Он замерзал на льду,
Он выжил…и уехал,
Зачем? Я не пойму.
От нашей жизни трудной
Устал… и вот конец –
Уехал, как сын блудный,
Как с корабля беглец.
Беглец, невозвращенец,
Живет в стране чужой,
И тамошний чеченец
Ему отец родной.
Он у него снимает
Последнее жилье,
По Родине скучает,
Где было все свое…
Эрнст Саприцкий
Любил, учился, воевал…
Он две войны прошел,
Он много книжек написал
И признанным ушел.
Был настоящий человек,
Военного закала,
Умел шутить. В наш смурый век
Нам это помогало.
Мы пели песни на стихи,
Что он нам подарил,
Он с молодежью часто был,
Он много с ней дружил.
Стихов я длинных не люблю,
Но вот стих о рояле
Звучит, как музыка в мозгу,
А вы его читали?
Прочтите. Образность его
Вас остро поразит…
Пока рояль этот открыт
И музыка звучит.
Стихи, что мастером написаны
Бывают плотью и душой,
Бывают праздничной симфонией,
Какой-то музыкой большой.
* * *
Александру Петровичу МежировуЭрнст Саприцкий
«Коммунисты, вперед!», – написал,
«Коммунисты, вперед!»,
И в Америку вскоре сбежал.
Вот такой поворот.
На жестокой войне воевал,
Погибал средь болот,
И в Америку вскоре сбежал.
Кто такое поймет?
Что в Америке он написал,
Чем живет?
Был хороший поэт, а кем стал?
По своим артиллерия бьет.
---
В Москве он жил и вырос,
И Родину любил,
Но вот на Дальний Запад
Уехать он решил.
Он воевал на фронте,
Он замерзал на льду,
Он выжил…и уехал,
Зачем? Я не пойму.
От нашей жизни трудной
Устал… и вот конец –
Уехал, как сын блудный,
Как с корабля беглец.
Беглец, невозвращенец,
Живет в стране чужой,
И тамошний чеченец
Ему отец родной.
Он у него снимает
Последнее жилье,
По Родине скучает,
Где было все свое…
* * *
Сергею Сергеевичу Наровчатову
1919-1981
Эрнст Саприцкий
Мало злата получив в дорогу,
Я бесценный разменял металл,
Мало дал я Дьяволу и Богу,
Слишком много Кесарю отдал….
С. Наровчатов
Хотя и был он «генералом»,
Хотя тянули его вверх,
Оставался добрым малым.
Заливая водкой грех.
Четыре года Колымы,
Литинститут и две войны
На многое глаза открыли
И мимикрии научили.
Как в маскировочный халат,
В нее запрятаться был рад.
Он не был власти трубадуром,
Страшась сумы, страшась тюрьмы,
Жил по Евангелью Фомы,
Во власть неверующим был
И этим конформистов злил.
Таких не так уж было много,
Предпочитавших все же Бога.
Эрнст Саприцкий
Забудь про Светлова с Багрицким,
Постигнув значенье креста,
Романтику боя и риска
В себе заглуши навсегда!…
А. Прасолов
Он заклеймил в своих стихах
То, чем мы раньше были живы,
Во что мы верили впотьмах,
Что оказалось позже лживым.
Он жизни не искал спокойной,
Он был на стройках, рудниках,
Рукой коснулся грани горной
И все это воспел в стихах.
Но только правду бытия,
Суровую во все века,
И эту жизнь не возлюбя,
Нажал рукой на спуск ружья.
Эрнст Саприцкий
Мало злата получив в дорогу,
Я бесценный разменял металл,
Мало дал я Дьяволу и Богу,
Слишком много Кесарю отдал….
С. Наровчатов
Хотя и был он «генералом»,
Хотя тянули его вверх,
Оставался добрым малым.
Заливая водкой грех.
Четыре года Колымы,
Литинститут и две войны
На многое глаза открыли
И мимикрии научили.
Как в маскировочный халат,
В нее запрятаться был рад.
Он не был власти трубадуром,
Страшась сумы, страшась тюрьмы,
Жил по Евангелью Фомы,
Во власть неверующим был
И этим конформистов злил.
Таких не так уж было много,
Предпочитавших все же Бога.
* * *
Он заклеймил в своих стихах ...Эрнст Саприцкий
Забудь про Светлова с Багрицким,
Постигнув значенье креста,
Романтику боя и риска
В себе заглуши навсегда!…
А. Прасолов
Он заклеймил в своих стихах
То, чем мы раньше были живы,
Во что мы верили впотьмах,
Что оказалось позже лживым.
Он жизни не искал спокойной,
Он был на стройках, рудниках,
Рукой коснулся грани горной
И все это воспел в стихах.
Но только правду бытия,
Суровую во все века,
И эту жизнь не возлюбя,
Нажал рукой на спуск ружья.
* * *
Григорию Михайловичу ПоженянуЭрнст Саприцкий
Неуемный темперамент,
Балагур и весельчак,
Всю войну прошел ногами,
Был разведчиком солдат.
Богатырь, любимец женщин,
Безудержен, смел, речист,
Он историей замечен,
Пред людьми и Богом чист.
Я люблю таких бедовых,
Честных, добрых и шальных;
Срок поджал, уже не молод,
Но скрипит еще, но жив.
А стихи? Ну что ж, стихи,
Не плохи, не хороши,
Вроде как Денис Давыдов,
Главное, что от души.
* * *
Анатолию Константиновичу Передрееву
1934-1987
Эрнст Саприцкий
Что там жизни моей фактик,
Что земли юдольный мир?! –
Разбегание галактик,
Тяжкий холод черных дыр…
А.Передреев
Он и с «черною дырой»,
И с звездою говорил,
И на свой язык родной
Бога он переводил.
Где-то музыка звучала,
Звезды шли со всех сторон,
И до звездного начала
Слышал он Вселенский стон.
Слышал он Большого взрыва
Первозданный мощный звук,
И галактики лениво
Распрямили кисти рук.
И Вселенский тихий ветер
Дунул вечности в лицо,
Ничего он не заметил,
Но писать стало легко.
И лились стихотворенья,
Он в бессмертье заглянул,
Будто Тютчев с того света
Ему руку протянул.
---
Он написал такую «Ночь»,
Что вряд ли кто еще так сможет,
Не превозмочь, не превозмочь,
Такой талант! О, Боже, Боже!
И он «Равнину» написал,
И описал себя у моря,
Я это много раз читал –
С таким талантом не поспоришь.
Не все друзья его мне любы,
Но что до них? Зато он сам…
Я слышу ангельские трубы
Поют Осанну небесам.
Таким от Бога все дается,
Таких излишне и учить,
И ничего не остается,
Как низко голову склонить.
Эрнст Саприцкий
Что там жизни моей фактик,
Что земли юдольный мир?! –
Разбегание галактик,
Тяжкий холод черных дыр…
А.Передреев
Он и с «черною дырой»,
И с звездою говорил,
И на свой язык родной
Бога он переводил.
Где-то музыка звучала,
Звезды шли со всех сторон,
И до звездного начала
Слышал он Вселенский стон.
Слышал он Большого взрыва
Первозданный мощный звук,
И галактики лениво
Распрямили кисти рук.
И Вселенский тихий ветер
Дунул вечности в лицо,
Ничего он не заметил,
Но писать стало легко.
И лились стихотворенья,
Он в бессмертье заглянул,
Будто Тютчев с того света
Ему руку протянул.
---
Он написал такую «Ночь»,
Что вряд ли кто еще так сможет,
Не превозмочь, не превозмочь,
Такой талант! О, Боже, Боже!
И он «Равнину» написал,
И описал себя у моря,
Я это много раз читал –
С таким талантом не поспоришь.
Не все друзья его мне любы,
Но что до них? Зато он сам…
Я слышу ангельские трубы
Поют Осанну небесам.
Таким от Бога все дается,
Таких излишне и учить,
И ничего не остается,
Как низко голову склонить.
* * *
Льву Адольфовичу Озерову
1914-1995
Эрнст Саприцкий
Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами…
Л. Озеров
Он в ВТО вел вечера
Библиотеки русского поэта,
Казалось, было то вчера,
Но только тень от силуэта.
Я помню, как он объявлял:
«Устная библиотека поэта
Выпуск… начинается!»
И зал влюблено замолкал…
Но все со временем кончается.
И без него заглохло дело,
Нет больше прежних вечеров,
Как без души мертвеет тело,
Как сад тускнеет без цветов.
---
О Бабьем Яре он сказал –
Пронзительней нельзя,
Как будто сам там побывал,
Как будто сам это видал,
Как корчится земля.
Их прах стучит в сердца живых
И будит память этот стих.
Не мне судить, какой поэт,
Поэзию любил,
И обеднел намного свет
С тех пор, как он почил.
Эрнст Саприцкий
Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами…
Л. Озеров
Он в ВТО вел вечера
Библиотеки русского поэта,
Казалось, было то вчера,
Но только тень от силуэта.
Я помню, как он объявлял:
«Устная библиотека поэта
Выпуск… начинается!»
И зал влюблено замолкал…
Но все со временем кончается.
И без него заглохло дело,
Нет больше прежних вечеров,
Как без души мертвеет тело,
Как сад тускнеет без цветов.
---
О Бабьем Яре он сказал –
Пронзительней нельзя,
Как будто сам там побывал,
Как будто сам это видал,
Как корчится земля.
Их прах стучит в сердца живых
И будит память этот стих.
Не мне судить, какой поэт,
Поэзию любил,
И обеднел намного свет
С тех пор, как он почил.
* * *
Она сказала это про Рублева...Эрнст Саприцкий
Поэт ходил ногами по земле,
а головою прикасался к небу.
Была душа поэта словно полдень,
И все лицо заполнили глаза.
К. Некрасова. Рублев. XVвек
Она сказала это про Рублева,
Но можно отнести и к ней самой.
Она была психически здорова,
Но всем казалася полубольной.
Печатая, в Союз не принимали,
Хоть белый стих был признан и давно,
Но все же ее равной не считали,
Такое было там тогда дерьмо.
Я не сторонник белого стиха,
Люблю я рифму и размер,
Но не унижусь до греха
Лишь в этом видеть воплощенье мер.
Ведь что-то трепетное есть
В ее причудливых стихах,
Их хочется опять прочесть,
Есть тайна некая в словах.
* * *
Он в столицу не рвался...Эрнст Саприцкий
Не искал, где живется получше,
Не молился чужим парусам…
А. Решетов
Он в столицу не рвался.
Жил в родной стороне,
Он за лишним не гнался,
Так хватало вполне.
Его крыша спасала –
Свой возделывал сад,
И судьба выручала,
Будь то снег или град.
---
В Березниках живет она,
Которую любил,
Которой несколько стихов
В дальнейшем посвятил.
Он долго жил в Березниках,
Ее, быть может, знал,
Я написал бы пару строк,
А он бы передал.
Ее мечтаю я найти,
Мечтаю встретить вновь,
Хоть разные у нас пути,
Но все ж была любовь.
Наверно, будет ревновать
Супруг ее законный,
Но мне бы только увидать
Тот взгляд ее бездонный.
Что ж, прошлого не воротить,
Известно это всем,
Но трудно все же нам прожить
Без прошлого совсем.
* * *
Боже, как много поэтов...Эрнст Саприцкий
Прожектор, холодный и резкий,
Как меч, извлеченный из тьмы,
Сверкнул над чертой перелеска,
Помедлил и пал на холмы…
Л. Решетников, «Ночная атака»
Боже, как много поэтов,
Просто не знаешь, кому
Дать предпочтенье. И этот
Пишет стихи про войну.
Пишет со знанием дела,
Годы провел на войне,
Сам прижимался всем телом
К мерзлой, холодной земле.
Сам вылезал из окопа
С хрипом и хрустом костей,
Шла, чертыхаясь, пехота,
Чтобы в чужие окопы
Броситься тыщей смертей.
Сверху на плечи кидались –
Кто-то протяжно стонал,
Черные тени метались,
Кажется, враг отступал.
Выжил в тот раз, но задела
Пуля шальная его,
Где-то, должно быть, засела,
Стало дышать тяжело.
Трудно ее извлекали,
Он терпеливо молчал,
Ну, а друзья воевали,
Он же пока отдыхал.
Вскоре его подлечили,
Вновь он на передовой,
Но тут фашиста добили
И он вернулся домой.
Долго потом еще прожил
Бывший солдат молодой,
Жизнь он свою подытожил
В книгах, что передо мной.
* * *
Борису Терентьевичу Примерову
1938-1995
Эрнст Саприцкий
Покончил жизнь самоубийством.
Ах, почему же, почему
И что такое с ним случилось?
И ничего я не пойму …..
Была звезда, но закатилась.
Еще одна звезда полей
Упала за леса до срока,
В пространстве сумеречных дней
Всходила, кажется, высоко.
Ах, как хотел подняться выше
Над нашей грешною землей,
Он смог бы много, но не вышло,
И хор поет за упокой.
И что случилось, не пойму,
Такой талантливый поэт!
Не прожив жизнь даже одну,
Вернул он Богу свой билет…
Эрнст Саприцкий
Покончил жизнь самоубийством.
Ах, почему же, почему
И что такое с ним случилось?
И ничего я не пойму …..
Была звезда, но закатилась.
Еще одна звезда полей
Упала за леса до срока,
В пространстве сумеречных дней
Всходила, кажется, высоко.
Ах, как хотел подняться выше
Над нашей грешною землей,
Он смог бы много, но не вышло,
И хор поет за упокой.
И что случилось, не пойму,
Такой талантливый поэт!
Не прожив жизнь даже одну,
Вернул он Богу свой билет…
* * *
Он начал жизнь от полного нуля...Эрнст Саприцкий
Моя последняя свобода
неотделима от народа…
А. Преловский
Он начал жизнь от полного нуля,
Где полустанки хвоею дышали,
На четверть где промерзлая земля,
Где слезы на морозе замерзали.
Он начал жизнь от полного нуля,
Но смог пробиться, выжить, состояться,
Он свой «Багульник» написал не зря –
За скалы научился он цепляться.
Он начал жизнь от полного нуля
И не на кого было опереться,
Но помогла родимая земля
И память об отце, оставшаяся с детства.
* * *
Георгию Кузьмичу Суворову
1919-1944
Эрнст Саприцкий
Первая книга его «Слово солдата» вышла в 1944 году,
но он ее увидеть не успел.
Он слово написал солдата
И стало слово то крылато:
«Свой добрый век мы прожили как люди –
И для людей»
Лейтенанты, лейтенанты,
Грустный выпал вам черед;
Молодые все ребята,
Необстрелянный народ.
Вам бы жить бы, не тужить бы,
Для себя и для людей,
До прижизненных изданий,
До повторных тиражей.
Не довелось. Не повезло,
И мимо смерть не пронесло.
Остались лишь крылатые слова,
Да в антологии посмертная глава.
Эрнст Саприцкий
Эрнст Саприцкий
Первая книга его «Слово солдата» вышла в 1944 году,
но он ее увидеть не успел.
Он слово написал солдата
И стало слово то крылато:
«Свой добрый век мы прожили как люди –
И для людей»
Лейтенанты, лейтенанты,
Грустный выпал вам черед;
Молодые все ребята,
Необстрелянный народ.
Вам бы жить бы, не тужить бы,
Для себя и для людей,
До прижизненных изданий,
До повторных тиражей.
Не довелось. Не повезло,
И мимо смерть не пронесло.
Остались лишь крылатые слова,
Да в антологии посмертная глава.
* * *
Алексею Александровичу Суркову 1899-1983Эрнст Саприцкий
Талант большой, недюжинный,
Но слишком стал заслуженным.
На столе и хлеб, и соль,
Но в стихах исчезла боль,
И не бьется уж огонь,
Не поет его гармонь.
Сладко кушал, много пил,
Власти преданно служил,
Распинал, разоблачал,
Несогласных обличал.
Написал десятки книг,
Но унылым стал язык.
* * *
Памяти ифлийцев
Юрий Арустамов
Слава книгам, что не были созданы!
За собою обрушив мосты,
под военными мрачными звездами
в бой вступали мальчишки Москвы.
Ополченцами шли, новобранцами,
выбирали по росту судьбу,
неумелыми тонкими пальцами
обхватив спусковую скобу.
Не надеясь на жизнь, слишком длинную,
проходя сквозь стальной суховей,
они строки слагали былинные —
все во славу Отчизны своей.
…Называют кафе «Бригантиною»,
говорят, что стихи не горят.
Только ветер кружит над равниною
пепел книг невоскресших ребят.
И ведет нас привычной дорогою
злая память о злых временах.
И глядит снова мачехой строгою
в наши детские лица война
Что за сила нас всех отмолила,
сохранила для этой земли,
где лежат в безымянных могилах
молодые питомцы ИФЛИ?
* ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории) — название гуманитарных институтов в Москве и Ленинграде в предвоенную пору. Большинство студентов, а среди них были П.Коган., С Гудзенко, Ю.Левитанский . пошли добровольцами на фронт, большая часть погибла.
* * *
Алексею Лебедеву
Гульнев Николай
Прости, поэт, нещадная война!
Осталась боль, когда читаешь сводку -
Холодная Балтийская волна
Навек укрыла дизельную лодку.
Ушёл «фрунзак» - весёлый лейтенант,
И песня для потомков не допета!
Ах, штурман флота, истинный талант -
С душою настоящего поэта!
…Вела тебя походов красота -
Ты в жизни был, известно, непоседой!
Но не сбылась последняя мечта -
В Кронштадт вернуться с первою победой!
Бьёт без тебя размашистый прибой,
Но стих летит сквозь флотские просторы,
И мы ведём по-прежнему с тобой
О Родине и флоте разговоры!
Форштевнем острым «режется струя»,
В морях «гудят, поют под ветром ванты»,
Как в год военный, «флота сыновья»,
Идут служить Отчизне лейтенанты!
* * *
Наталья Спасина 2
Новелле Матвеевой
Девушка…женщина в лёгкой косынке,
Муза твоя неподвластна векам…
Ты уплывала в закат невидимкой,
И возвращалась с дождём по утрам…
Просто в обнимку с дождём возвращалась,
И не прощалась, а cчастье ждала…
Просто ждала, для кого это малость,
Но, по-другому совсем не могла…
Просто мечтала, писала и пела…
Тонкого голоса звонкая нить,
Струны души задевала умело,
И заряжала энергией жить…
Что-то обязано в сердце остаться
В память об этих бесценных стихах-
Три на четыре из серого глянца
Карточки…песен наивный размах…
Старенький плащ, так до боли любимый,
Шарфик, гитара…духов аромат…
Тень, всякий раз проходящая мимо,
Женщины хрупкой…внимательный взгляд
Влажных очей…след гвоздя на стене,
След от поэзии пульсом во мне…
* * *
Владимир Корнилов
СОЛЯНКА
Пятидесятых конец.
Шестидесятых начало.
Межирова не качало —
Он затворился, гордец.
Ежели невмоготу
Станет, пойду спозаранку
К Межирову на Солянку
И полпоэмы прочту.
Там, на шестом этаже,
Спросит меня: «Где же чудо?»
Ссориться, спорить не буду,
Мне разнос по душе.
Обзаведусь ли стихом
Личным, своим – неизвестно.
…
…Близко, в соседних подъездах,
Лет этак двадцать живем.
Долгие двадцать годов,
Радостно нам или туго,
Не навещаем друг друга
И не читаем стихов.
Но почему спозаранку,
Ежели невмоготу,
К Межирову на Солянку
Сызнова память веду?
Что же стремлюсь как помешанный
В снежный предутренний дым?
Или смутил меня Межиров
Бешеным ритмом своим?
Вывернувшись наизнанку,
С жабой и мукой в груди,
Снова бреду на Солянку,
Словно бы всё впереди…
* * *
Владимир Корнилов
* * *
Арсений Тарковский
Мне во что бы то ни стало
надо встретиться с тобой,
русской песни запевала
и се мастеровой.
С обоюдным постоянством
мы б послали с кондачка
все романсы-преферансы
для частушки и очка.
Володимирской породы
достославный образец,
добрый молодец народа,
госэстрады молодец.
Ты никак не ради денег
не затем, чтоб лишний грош,
по Москве, как коробейник,
песни сельские несешь.
Песня тянет и туманит,
потому что между строк
там и ленточка и пряник,
тут и глиняный свисток.
Песню петь-то надо с толком,
потому что между строк
и немецкие осколки,
и блиндажный огонек.
Там и выдумка и были,
жизнь как есть — ни дать, ни взять.
Песни те, что не купили,
будем даром раздавать.
Краснощекий, белолицый,
приходи ко мне домой,
шумный враг ночных милиций,
брат милиции дневной.
Приходи ко мне сегодня
чуть, с устаточку, хмелен,
посмеемся я ж охотник,
и поплачем — ты ж силен.
Ну-ка вместе вспомним, братцы,
отрешась от важных дел,
как любил он похваляться,
как он каяться умел.
О тебе, о неушедшем,
не смогу себе простить! —
я во времени прошедшем
вздумал вдруг заговорить.
Видно, черт меня попутал,
ввел в дурацкую игру
Это вроде б не к добру-то,
впрочем, нынче все к добру
Ты меня, дружок хороший,
за обмолвку извини.
И сегодня же, Алеша,
или завтра позвони...
* * *
Арсений Тарковский
* * *
Давид Самойлов
* * *
Александр Городницкий
Поэты двадцатых
Снова вы ночами
Приходите в гости,
Ваших дней суровых
Оборвана нить,
Мальчики с тачанок,
Парни -- вырви-гвозди,
Что всегда готовы
Умереть и убить.
Шум деревьев мокрых.
На исходе лето.
На пейзаж унылый
Дождик моросит,
И Багрицкий смотрит
С тёмного портрета,
И Борис Корнилов
Глазом косит.
На Земле, на мачехе,
Спелых листьев гроздья.
Разбросав, не нужно
Камни собирать.
Аховые мальчики,
Парни -- вырви-гвозди,
Где же ваша дружная,
Преданная рать?
Той порой неласковой
Мне бы вместе с вами,
Не дрожа от ужаса,
С ясным лицом,
Любоваться наскоро
Засыпанными рва
Укреплять содружест
Сталью и свинцом.
Молниею сабля,
Чёрной тучей -- ворон,
Есть такое мнение,
Что бомба -- стих.
Сами вы писали
Себе приговоры,
Сами в исполнение
Приводили их.
А протока всякая
Зарастает тиной.
Славили вы бодро
Ваше житие.
Так, цепями звякая,
Перед гильотиной,
Воспевал победу
Андрей Шенье.
Вплетена в кумач её
Траурная лента.
Дышит тёплой влагой
Южный ветерок.
Воспоём же, мальчики,
Светлый нож Конвента,
Белую бумагу,
Красный террор!
* * *
Александр Городницкий
Поэты военного поколения
Поэты военного поколения,
Которых ставили на колени,
Сознавали это в какой-то мере,
Поэтому предпочитали верить
Тому, во имя чего их ставили,
Например -- за Родину и за Сталина.
Они снисхождения не просили,
На рубежах обречённых стоя.
Себя почитали частью России,
Её заражаясь неправотою.
И радовались, стихи свои склеив
Из приказов расстрельного материала.
Россия же не любила евреев,
И им свой голос не доверяла.
Она доверяла тогда грузину
В полуопущенных эполетах,
С которым перезимовала зиму,
С которым перебедовала лето.
Среди грязноватых московских сугробов,
В кителях полувоенных суконных,
Они стояли у этого гроба,
Они молились на эту икону,
Вдыхая жадно морозный воздух
Отчизны неправедной и увечной.
И тусклые пятиконечные звезды
Над ними мерцали, как семисвечник.
* * *
Александр Городницкий
Памяти Евгения Клячкина
Сигаретой опиши колечко.
Снова расставаться нам пора.
Ты теперь в земле остался вечной,
Где стоит июльская жара.
О тебе поплачет хмурый Питер
И родной израильский народ.
Только эти песни на иврите
Кто-нибудь навряд ли запоёт.
Со ступеней набережной старой
На воду пускаю я цветы.
Слышу я знакомую гитару.
Может, это вовсе и не ты,
Может, и не ты совсем, а некто
Улетел за тридевять земель,
Дом на переулке Антоненко
Поменяв на город Ариэль.
Сигаретой опиши колечко,
Пусть дымок растает голубой.
Всё равно на станции конечной
Скоро мы увидимся с тобой.
Пусть тебе приснится ночью синей,
Возвратив душе твоей покой,
Дождик василеостровских линий
Над холодной цинковой рекой.
* * *
Пусть им жилось тоскливо и натужно...
Виталий Пуханов
Пусть им жилось тоскливо и натужно,
они погибли весело и дружно —
друзья мои, весенних дней венозных
несносные поэты девяностых.
Их в новый век не взяли никого,
их позабыли всех до одного.
А в чём была их роковая участь,
я не пойму и мучусь, мучусь, мучусь.
Я вижу их — мерещатся порой.
У века за чертой, как за горой,
они сидят. Накрытые поляны,
разложены листы, поэты пьяны,
и кто-то спит, а кто-то говорит,
и голова под утро не болит!
Язык бежит, рука не затекает,
в ней чаша тяжела не усыхает.
Никто не потревожит их полёт,
ну разве только Пушкин забредёт
и Лермонтова тихо почитает.
* * *
Иосиф Бродский
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС
Евгению Рейну, с любовью
Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.
Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.
Плывет во мгле замоскворецкой
пловец в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.
Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.
Твой Новый год по темно-синей
волне средь шума городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
28 декабря 1961
* * *
АРОН КОПШТЕЙН
ПОЭТЫ
Я не любил до армии гармони,
Ее пивной простуженный регистр,
Как будто давят грубые ладони
Махорочные блестки желтых искр.
Теперь мы перемалываем душу,
Мечтаем о театре и кино,
Поем в строю вполголоса «Катюшу»
(На фронте громко петь воспрещено).
Да, каждый стал расчетливым и горьким:
Встречаемся мы редко, второпях,
И спорим о портянках и махорке,
Как прежде о лирических стихах.
Но дружбы, может быть, другой не надо,
Чем эта, возникавшая в пургу,
Когда усталый Николай Отрада
Читал мне Пастернака на бегу.
Дорога шла в навалах диабава,
И в маскхалатах мы сливались с ней,
И путано-восторженные фразы
Восторженней звучали и ясней!
Дорога шла почти как поединок,
И в схватке белых сумерек и тьмы
Мы проходили тысячи тропинок,
Но мирозданья не топтали мы.
Что ранее мы видели в природе?
Степное счастье оренбургских нив,
Днепровское похмелье плодородья
И волжский нелукавящий разлив.
Не ливнем, не метелью, не пожаром
(Такой ее мы увидали тут) —
Она была для нас Тверским бульваром,
Зеленою дорогой в институт.
Но в январе сорокового года
Пошли мы, добровольцы, на войну,
В суровую финляндскую природу,
В чужую, незнакомую страну.
Нет, и сейчас я не люблю гармони
Визгливую, надорванную грусть.
Я тем горжусь, что в лыжном эскадропе
Я Пушкина читаю наизусть,
Что я изведал напряженье страсти,
И если я, быть может, до сих пор
Любил стихи, как дети любят сласти, —
Люблю их, как водитель свой мотор.
Он барахлит, с ним не находишь сладу,
Измучаешься, выбьешься из сил,
Он три часа не слушается кряду —
И вдруг забормотал, заговорил,
И ровное его сердцебиенье,
Уверенный, неторопливый шум,
Напомнит мне мое стихотворенье,
Которое еще я напишу.
И если я домой вернуся целым,
Когда переживу двадцатый бой,
Я хорошенько высплюсь первым делом,
Потом опять пойду на фронт любой.
Я стану злым, расчетливым и зорким,
Как на посту (по-штатски — «на часах»),
И, как о хлебе, соли и махорке,
Мы снова будем спорить о стихах.
Бьют батареи. Вспыхнули зарницы.
А над землянкой медленный дымок.
«И вечный бой.
Покой нам только снится...»
Так Блок сказал.
Так я сказать бы мог.
1940
* * *
Поженян Григорий Михайлович
Поэты
Оттого и поэтому
веки были красны…
Становились поэтами,
возвратившись с войны.
Чтоб словами нелживыми
день держать в чистоте.
Чтоб, пока ещё живы мы,
живы были и те.
Чтобы не с оговорками,
а, черна добела,
та война была горькою,
раз уж горькой была.
И чужой от отчаяния,
и своей до конца.
Чтоб роднили случайные
девять граммов свинца.
Чтоб последней разлукою,
для тебя, для меня
был последнею мукою
свет победного дня.
Оттого и поэтому
были веки красны…
Становились поэтами,
возвратившись с войны.
В орденах, без копеечки,
начиная с нуля,
шли мы в скошенной кепочке,
по Тверскому пыля.
И не ждали признания,
посыпая, как соль,
на горбушку призвания
неостывшую боль.
* * *
Виктор Широков
МЕМОРИЯ О ЛЕОНИДЕ МАРТЫНОВЕ
Кто не якшался, кто не чванствовал, приближен к царскому двору; с Рембо курил, с Верленом пьянствовал, с Вийоном дрался поутру… Всяк нынче бредит мемуарами, припоминая без прикрас, а все же лентою муаровой нет-нет да выглядит рассказ. Воспоминанья о Мартынове составили изрядный том, а чем так речи, эти рты новы, узнаете ли вы о том? Запомнились всем совпадения мистические неких цифр… А взлеты духа, а падения — кому доступен сложный шифр? Я тоже с ним встречался изредка (по службе), но о том молчу, ведь вызывать сегодня призрака я не могу и не хочу. Я сохранил его автографы (немногочисленные, но литературные топографы их оценили б все равно); я помню разговоры жаркие и вороха его бумаг, но все мои потуги жалкие не выразят, какой он маг. Что ж, творчество — не созерцание, порой не только дань уму… И все-таки живет мерцание, что я наследовал ему не только пресловутой книжностью и стихопрозой козырной, но — жаждой знания, подвижностью и чертовщинкой озорной. А, впрочем, бросим эти "яканья", здесь важно то, что индивид — любой из нас… Был слова лакомкой поэт Мартынов Леонид. И пусть бурлят воспоминания о нем с закваской колдовской, они всегда напоминание о свойствах памяти людской. Отбрасывается бесполезное, сгорает как в огне костра… Его стихи, его поэзия всегда, как лезвие, остра.
* * *
Семен Липкин
КВАДРИГА*
Среди шутов, среди шутих,
Разбойных, даровитых, пресных,
Нас было четверо иных,
Нас было четверо безвестных.
Один, слагатель дивных строк,
На точной рифме был помешан.
Он как ребенок был жесток,
Он как ребенок был безгрешен.
Он, искалеченный войной,
Вернулся в дом сырой, трухлявый,
Расстался с прелестью-женой,
В другой обрел он разум здравый,
И только вместе с сединой
Его коснулся ангел славы.
Второй, художник и поэт,
В стихах и в красках был южанин,
Но понимал он тень и свет,
Как самородок-палешанин.
Был долго в лагерях второй.
Вернулся — весел, шумен, ярок.
Жизнь для него была игрой
И рукописью без помарок.
Был не по правилам красив,
Чужой сочувствовал удаче,
И умер, славы не вкусив,
Отдав искусству жизнь без сдачи,
И только дружеский архив
Хранит накал его горячий.
А третья нам была сестрой.
Дочь пошехонского священства,
Объединяя страсть и строй,
Она искала совершенства.
Муж-юноша погиб в тюрьме.
Дитя свое сама растила.
За робостью в ее уме
Упрямая таилась сила.
Как будто на похоронах,
Шла по дороге безымянной,
И в то же время был размах,
Воспетый Осипом и Анной.
На кладбище Немецком — прах,
Душа — в юдоли богоданной.
А мне, четвертому, — ломать
Девятый суждено десяток,
Осталось близких вспоминать,
Благословляя дней остаток.
Мой путь, извилист и тяжел,
То сонно двигался, то грозно.
Я счастлив, что тебя нашел,
Мне горько, что нашел я поздно.
Случается, что снится мне
Двор детских лет, грехопаденье,
Иль окруженье на войне,
Иль матери нравоученье,
А ты явилась — так во сне
Является стихотворенье.
* * Герои этого стихотворения — Арсений Тарковский, Аркадий Штейнберг и Мария Петровых
* * *
Без всякого мистического вздора...
Борис Чичибабин
Без всякого мистического вздора,
Обыкновенной кровью истекав,
По-моему, добро и здорово,
Что люди тянутся к стихам.
Кажись бы, дело безполезное,
Но в годы памятного зла
Поеживалась Поэзия, —
А всё-таки жила!
О, сколько пуль в поэтов пущено,
Но радость пела в мастерах,
И мстил за зло улыбкой Пушкина
Непостижимый Пастернак.
Двадцатый век болит и кается,
Он — голый, он — в ожогах весь.
Бездушию политиканства
Поэзия — противовес.
На колья лагерей натыканная,
На ложь и серость осерчав,
Поворачивает к Великому
Человеческие сердца…
Не для себя прошу внимания,
Мне не дойти до тех высот.
Но у меня такая мания,
Что мир Поэзия спасёт.
И вы не верьте в то, что плохо вам,
Перенимайте вольный дух
Хотя бы Пушкина и Блока,
Хоть этих двух.
У всех прошу, во всех поддерживаю
Доверье к царственным словам.
Любите Русскую Поэзию.
Зачтётся вам.
* * *
Н. Заболоцкий
Читая стихи
Любопытно, забавно, и тонко:
Стих, почти непохожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.
И в бессмыслице скомканной речи
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?
И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?
Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.
Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.
* * *
Е.Евтушенко
В строке, отливающей сталью...
В строке, отливающей сталью,
холодная скрыта игра.
Я выше поэзии ставлю
сражение зла и добра.
Поэзия - как неживая,
когда равнодушным пером
добро она злом называет,
а зло называет добром.
Бесчувствие - это увечье.
Строке доверяю, когда
лицо у неё человечье:
из радости, гнева, стыда.
В строке хороша недомолвка,
но не трусоватый намёк,
а кровью строка не намокла
престиж у поэта подмок.
Я видел эпох столкновенье,
руками разламывал зло,
и это - моё становленье,
а прочее - всё ремесло.
Какая забота мне, право,
что чей-нибудь слух услаждён.
Добро победит - я оправдан,
а зло победит - осуждён.
Но есть и такое мошенство
при литературном дворе,
похожее на двоежёнство:
жениться на зле и добре.
Не вырастет гений из хлюста.
Ещё никогда не была
победа большого искусства
хоть малой победой зла.
* * *
Борис Кушнер
СОНЕТ
Петрарка, Дант, Буонаротти,
Туманной Англии Поэт -
В любого века развороте
Державно царствовал Сонет.
Строкой и сжатой, и просторной
Сонет нам сердце захватил.
Он затмевал высокой формой
Само сияние светил.
Бессонных Муз благоволенье -
Ликуй и плачь, пылай, дрожи
Сквозь беспредельное волненье,
Сквозь озарения души.
Пришла эпоха Интернета,
И ей нет дела до Сонета.
* * *
Георгий Долматов
Евгению Рейну
Жизнь поэта не проста, поверьте,
Если он страстями опален
На себе попробуйте, проверьте
Жизнь любя, как он в нее влюблен.
Звезды он снимал с небес вечерних
Словно яблоки в своем саду,
Проносил стихи свои сквозь тернии,
Зажигая новую звезду.
Он дружил, курил и спорил с Бродским,
Был на равных и не с ним одним,
Но не предал русские березки
Горькими наветами гоним.
Он о счастье большем, знаю ,бредил,
Чем ему судьбой предрешено,
В его сердце тысячи трагедий
Влито в искрометное вино.
Жизнь его на зависть, без сомнений,
Жизнь поэта, кого слышал бог
В отблеске пленительных мгновений
И в пыли от пройденных дорог.
* * *
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ
ПАМЯТИ М. ЛУКОНИНА
Здесь рифмуются пожарища
Ничему не вопреки…
Старшие мои товарищи —
Все фронтовики.
Им доверить можно исповедь,
К ним войти, как равный, в дом.
Я любуюсь ими исподволь
В этом времени и в том.
Не пустили в пламень дунувший.
Есть такие времена —
Что и отроков, и юношей
Возраст мучит, как вина.
Где оно, мое бесстрашие
Перед пулей и штыком?
Время, кажется, вчерашнее,
Но сегодня в горле ком.
Здесь рифмуются пожарища
Ничему не вопреки.
Лучшие мои товарищи —
Все фронтовики.
Но ни в деле, ни на празднестве,
Где бы с ними ни шагнул,
Вопиющей этой разницы
Ни один не подчеркнул.
Не смешаю были с небылью —
У другого был огня.
Просто знаю: если б не было
Их,
То не было меня.
* * *
Аля Воронкова
Под гитару
«Как бьют часы! Со счета можно сбиться.
По полке бродят блики, неясны».
Ю. Левитанский
Как бьют часы! Со счёта можно сбиться. (с)
За шторой ночь и новый чистый снег.
Слепой ночник высвечивает лица
Друзей моих, которых больше нет.
Их имена и редкое звучанье
Открытых душ …забвенью не отдам!
Мы сами ставим точки окончаний
Дорогам, отношениям, годам.
Рука опять потянется к гитаре.
Припоминая сложный перебор,
Ведёт душа
Свой бесконечно-старый
С ушедшими друзьями разговор…
А со стены Витёк, Олежек, Ромка
В заснеженную смотрят вышину.
…И бьют часы каминные негромко,
Боясь нарушить в доме тишину.
Кого назад не отпустили горы,
Кого-то забрала с собой болезнь…
А я живу за них,
Один,
Упорно
Под наш девиз – «Срываешься, но лезь!»
Листаю жизни лучшие страницы,
И в сердце возвращается покой.
…Слепой ночник высвечивает лица
Друзей моих под неустанный бой.
А вдалеке, где негде и укрыться
От снега и метелей,
Горы спят.
…Как бьют часы! Со счёта можно сбиться. (с)
Поведай, время,
Где твой путь назад?
* * *
Белла Ахмадулина
НОЧЬ УПАДАНЬЯ ЯБЛОК
Семёну Липкину
Уж август в половине. По откосам
по вечерам гуляют полушалки.
Пришла пора высокородным осам
навязываться кухням в приживалки.
Как женщины глядят в судьбу варенья:
лениво-зорко, неусыпно-слепо —
гляжу в окно, где обитает время
под видом истекающего лета.
Лишь этот образ осам для пирушки
пожаловал – кто не варил повидла.
Здесь закипает варево покруче:
живьём съедает и глядит невинно.
Со мной такого лета не бывало.
– Да и не будет! – слышу уверенье.
И вздрагиваю: яблоко упало,
на «НЕ» – извне поставив ударенье.
Жить припустилось вспугнутое сердце,
жаль бедного: так бьётся кропотливо.
Неужто впрямь небытия соседство,
словно соседка глупая, болтливо?
Нет, это – август, упаданье яблок.
Я просто не узнала то, что слышу.
В сердцах, что собеседник непонятлив,
неоспоримо грохнуло о крышу.
Быть по сему. Чем кратче, тем дороже.
Так я сижу в ночь упаданья яблок.
Грызя и попирая плодородье,
жизнь милая идёт домой с гулянок.
* * *
Давид Самойлов
Пятеро
Жили пятеро поэтов
В предвоенную весну,
Неизвестных, незапетых,
Сочинявших про войну.
То, что в песне было словом,
Стало верною судьбой.
Первый сгинул под Ростовом,
А второй - в степи сырой.
Но потворствует удачам
Слово - солнечный кристалл.
Третий стал, чем быть назначен,
А четвертый - тем, чем стал.
Слово - заговор проклятый!
Все-то нам накликал стих…
И живет на свете пятый,
Вспоминая четверых.
* * *
Геннадий ИВАНОВ
СВИДЕТЕЛЬ
Я видел поэтическое дерево –
Я видел Соколова, Передреева,
И Кузнецова, Тряпкина, и Сухова…
Я видел их и слышал, и любил.
Казанцева, Жигулина, Горбовского,
И Решетова, но березниковского…
Рубцова я не видел, но поистине
Он рядом, ближе многих ближних был.
Да, это было дерево так дерево.
Душа при нём жила, любила, верила.
Застал я время дивное в поэзии,
Чему я рад и по чему грущу.
И альманахи были интересные,
И вечера поэзии чудесные.
И много значили тогда для многих строки
В Москве и в Питере, и во Владивостоке…
* * *
Леонид Хаустов
«КОЛОКОЛЬЧИК»
Помню госпиталь: просто палатки.
По-над Ладогой снова метёт.
Костя Лебедев, родом из Вятки,
Высоко забирая, поёт.
Кто стонал — тот заслушался молча,
Кто молчал — тот вздохнул: «Во даёт!
«Однозвучно гремит колокольчик»,—
Под гитару нам Костя поёт.
Чем до Питера, ближе до бога.
Дали нам костыли и — пока,
Поправляйся, боец!.. А дорога
Предо мной далека, далека…
* * *
Юлия Друнина
ПОЭТ
Вернулся из войны. Не так уж молод —
Остался за спиною перевал…
Вернулся из войны. Блокадный холод
Его больное сердце не сковал.
Не рвался на высокие трибуны
И не мечтал блистать за рубежом.
Нет, не завидовал модерным, юным
Он — скромной гордостью вооружен.
Страдал. Писал. Не требуя награды.
За строчкой строчку. Трудно. Не спеша.
В тени… В нем билось сердце Ленинграда,
В нем трепетала Питера душа.
Он помнил — Пушкин, Достоевский, Ленин
Дышали белым маревом Невы…
Седой поэт, застенчивости пленник,
Идет, не поднимая головы.
В президиум, в последний ряд, садится,
Прищурив близорукие глаза.
И освещаются невольно лица,
И благодарно замирает зал,
Когда поэт выходит на трибуну,
Когда берет, робея, микрофон,
И далеко запрятанные струны
Невольно в душах задевает он.
Мы снова верим, что в наш век жестокий,
Который всяким сантиментам чужд,
Еще становятся бинтами строки
Для раненых, для обожженных душ.
* * *
Юлия Друнина
НА ЭСТРАДЕ
Аудитория требует юмора,
Аудитория, в общем, права:
Ну, для чего на эстраде угрюмые,
Словно солдаты на марше, слова?
И кувыркается бойкое слово,
Рифмами, как бубенцами, звеня.
Славлю искусство Олега Попова,
Но понимаю все снова и снова:
Это занятие не для меня…
Требуют лирики. Лирика… С нею
Тоже встречаться доводиться мне.
Но говорить о любви я умею
Только наедине.
Наедине, мой читатель, с тобою,
Под еле слышимый шелест страниц
Просто делиться и счастьем, и болью,
Сердцебиеньем, дрожаньем ресниц…
Аудитория жаждет сенсаций,
А я их, признаться, боюсь, как огня.
Ни громких романов, ни громких оваций
Не было у меня.
Но если меня бы расспрашивал Некто
Чем я, как поэт, в своей жизни горда? —
Ответила б: «Тем лишь, что ради эффекта
Ни строчки не сделала никогда».
* * *
Борис Слуцкий
Заученный, зачитанный...
Заученный, зачитанный,
залистанный до дыр,
Сельвинский мой учитель,
но Пушкин — командир.
Сельвинский мой учитель,
но более у чисел,
у фактов, у былья
тогда учился я.
* * *
Жизнь людская всего лишь одна...
Бахыт Кенжеев
Жизнь людская всего лишь одна.
Я давно это понял, друзья,
И открытия делаю я,
Наблюдая за ней из окна.
Там прохожий под ветром дрожит,
И собака большая бежит,
После вьюги полночной с утра
Белым снегом сияет гора.
Даже в самом начале весны
Человеки бывают грустны,
И в отчаянье приходят они,
Если время проводят одни.
Я совсем не мелю языком –
Этот опыт мне очень знаком,
Чтобы весело жить, не болеть,
Очень важно его одолеть.
И конечно, поэт Владислав
Ходасевич безумно не прав –
Только мусор, и ужас, и ад
Уловил за окном его взгляд.
И добавлю, что Хармс Даниил
Тоже скептик неправильный был –
Злые дети играли с говном
За его ленинградским окном.
Не горюй, если сердце болит!
Вон в коляске слепой инвалид –
Если б был он без рук и без ног,
Далеко бы уехать не смог.
Но имея коляску и пса,
Не снимает руки с колеса,
И хорошие разные сны
Наблюдает заместо весны.
Умирает один и другой.
Человек без ноги и с ногой.
Но подумаю это едва –
Распухает моя голова.
И опять за огромным окном
Жизнь куда-то бежит с фонарем,
Жизнь куда-то спешит налегке
С фонарем и тюльпаном в руке.
* * *
Наталия Кравченко
Борис Рыжий
Мир свердловской окраины.
Подворотни, кенты.
Было сердце изранено,
несмотря на понты.
Иудейская нация.
Мусора, кореши...
За блатной интонацией –
беззащитность души.
Не тюрьма, не котельная,
не в терновом венце,
но пугала смертельная
тень на юном лице.
Никакой совместимости –
лучше пропасть во ржи!
И не надо красивости,
вашей фальши и лжи.
Нет, не словочеркание, –
грусть, берёзка, ветла, –
было самосжигание,
так по-русски, дотла!
Что-то жаркое, жалкое
мне уснуть не даёт.
Скверы, арки и ангелы
помнят имя твоё.
От накликанной гибели –
до небесных верхов...
Я не знаю пронзительней
и больнее стихов.
Свалки, урки плечистые,
дым ночей воровских,
а над всем этим – чистая
литургия тоски.
Песнь разлуки и горести,
просветления пир...
И печальнее повести
не знавал и Шекспир.
Алкоголик, юродивый,
ну зачем, на фига?!.
Но осталась мелодия
на века, на века.
ТРИ БОРИСА
Грустные ромашки,
хвощ да лопухи.
Тяпнем по рюмашке,
заведем стихи.
В тайне полумрака
здесь, за гаражом,
свечку Пастернака
мысленно зажжём.
И скорбящий Слуцкий,
как родных людей,
помянёт по-русски
рыжих лошадей.
Чичибабин, взором
прост и не мастит,
горстью помидоров
красных угостит.
Клевер да сурепка,
плющ да лебеда.
Век стегал их крепко,
дар секла беда.
Тот сдыхал в опале,
этот гнил в тюрьме.
Цензоры не спали,
бдел стукач во тьме.
В мире барбарисов,
хмеля да крапив
судьбы трех Борисов
горькой окропим.
И читать до третьих
будем петухов.
Можно ль жить на свете
без таких стихов?..
Несовершенный сонет
Отбросив ахи всякие и охи,
Слова-ходули и слова-весы,
Я провела немалые часы
Наедине с поэтами эпохи.
Там были лжепророки и пройдохи,
И мытари газетной полосы,
И рифмачи... А рядом — полубоги —
Владетели величья и красы.
Чисты их имена,
И горек голос лир,
И дух высок, и слово осиянно...
На вечны времена:
Владимир, Велимир,
Марина, и Борис, и Александр, и Анна.
О “Бродячей собаке” читать не хочу
Что делать нам (как вслед за Гумилевым
чуть слышно повторяет Мандельштам)
с вечерним светом, алым и лиловым,
Как ветер, шелестящий по кустам
орешника, рождает грешный трепет,
треск шелковый, и влажный шорох там,
где сердце ослепительное лепит
свой перелетный труд, свой трудный иск,
- так горек нам неумолимый щебет
птиц утренних, и солнца близкий диск-
что делать нам с базальтом под ногами
(ночной огонь пронзителен и льдист),
что нам делить с растерянными нами,
когда рассвет печален и высок?
Что я молчу? О чем я вспоминаю?
И камень превращается в песок.
Тень
В Таврическом саду моя пребудет тень.
Я чаще здесь гулял, чем кто-нибудь из прочих
Поэтов. Блок бывал здесь, но не каждый день:
Раз пять, быть может шесть; Ахматова не очень
Любила этот сад, поскольку Гумилев
С хозяином, увы, не ладил с круглой башни;
Претендовать Кузмин на это место б мог,
Но он предпочитал другой, в котором шашни
Игривые в своей "Форели" описал:
В Таврическом саду огреть за это палкой
Могли, а то и вслух сказать: "Какой нахал!",
Петлица пострадать могла с ночной фиалкой.
Вот Анненскому я чугунную скамью
Поставил бы в саду, а сам убрался б к черту,
Да в Павловске ему привычней к забытью
Клониться и внимать рояльному аккорду.
Сад сумрачен, ему разбросанность к лицу,
Не вытянут в струну, не чахлый он, не узкий,
Мне нравится, что он разбит по образцу
Английскому, а не расчерчен по-французски,
Что светел он, тенист, неровен, кое-где
Взбирается на холм, спускается в низину,
Что уточек скользит армада по воде,
Безмолвен старый дуб и гол наполовину.
Итак, придется мне свою оставить тень
В Таврическом саду, а памятник в сравненье
С ней - пошлость, ерунда, бесстыдство, дребедень:
Сирень не приведет весной его в волненье.
Пятидесятых конец.
Шестидесятых начало.
Межирова не качало —
Он затворился, гордец.
Ежели невмоготу
Станет, пойду спозаранку
К Межирову на Солянку
И полпоэмы прочту.
Там, на шестом этаже,
Спросит меня: «Где же чудо?»
Ссориться, спорить не буду,
Мне разнос по душе.
Обзаведусь ли стихом
Личным, своим – неизвестно.
…
…Близко, в соседних подъездах,
Лет этак двадцать живем.
Долгие двадцать годов,
Радостно нам или туго,
Не навещаем друг друга
И не читаем стихов.
Но почему спозаранку,
Ежели невмоготу,
К Межирову на Солянку
Сызнова память веду?
Что же стремлюсь как помешанный
В снежный предутренний дым?
Или смутил меня Межиров
Бешеным ритмом своим?
Вывернувшись наизнанку,
С жабой и мукой в груди,
Снова бреду на Солянку,
Словно бы всё впереди…
* * *
Владимир Корнилов
ПОД КАПЕЛЬНИЦЕЙ
Прелестный лирик Митя Сухарев,
И он же физиолог Сахаров,
В литературе ставший ухарем,
В своей науке ставший знахарем.
Люблю твои стихотворения,
Где неосознанное создано,
Где бездна чувств и настроения,
Ума, и юмора, и воздуха.
Что выше – слово или музыка?
Сегодня песен половодие,
А стих томится вроде узника
В роскошном карцере мелодии.
Один – свободным и услышанным —
Он должен жить во здравье нации…
А я твои четверостишия
Опять шепчу в реанимации.
* * *
Прелестный лирик Митя Сухарев,
И он же физиолог Сахаров,
В литературе ставший ухарем,
В своей науке ставший знахарем.
Люблю твои стихотворения,
Где неосознанное создано,
Где бездна чувств и настроения,
Ума, и юмора, и воздуха.
Что выше – слово или музыка?
Сегодня песен половодие,
А стих томится вроде узника
В роскошном карцере мелодии.
Один – свободным и услышанным —
Он должен жить во здравье нации…
А я твои четверостишия
Опять шепчу в реанимации.
* * *
Михаил Дудин
Памяти М.Джалиля
Когда в упор стреляют песню
И мнут подковами копыт,
Она, свободы светлый вестник,
Сквозь пыль в грядущее летит.
Она не может кануть в Лету.
Ей нет начала и конца.
И Пушкин принял эстафету
От безымянного певца.
Я прошлому не потакаю.
Меня от памяти знобит.
Сибирь тоскует по Тукаю,
И по Джалилю – Моабит.
Палач подходит к изголовью
И целится наверняка.
Снега дымятся свежей кровью,
И стонет камень Машука.
И под топор подходит Фучик,
И под прицел встает Джалиль.
Но мир свободе песня учит
И с крыльев стряхивает пыль.
И ей не надо перевода.
Она останется живой
В твоей судьбе, в судьбе народа,
В судьбе свободы мировой.
* * *
Фаликов Илья
Памяти М.Джалиля
Когда в упор стреляют песню
И мнут подковами копыт,
Она, свободы светлый вестник,
Сквозь пыль в грядущее летит.
Она не может кануть в Лету.
Ей нет начала и конца.
И Пушкин принял эстафету
От безымянного певца.
Я прошлому не потакаю.
Меня от памяти знобит.
Сибирь тоскует по Тукаю,
И по Джалилю – Моабит.
Палач подходит к изголовью
И целится наверняка.
Снега дымятся свежей кровью,
И стонет камень Машука.
И под топор подходит Фучик,
И под прицел встает Джалиль.
Но мир свободе песня учит
И с крыльев стряхивает пыль.
И ей не надо перевода.
Она останется живой
В твоей судьбе, в судьбе народа,
В судьбе свободы мировой.
* * *
Фаликов Илья
Памяти Луговского
Гусь, у которого горло забито песком.
Песня варяга, и профиль его на щите,
вбитом в песчаник.
Русь, по которой гуляют басмач и ревком.
Стаи русалок, закатанных по простоте
в битум, печальник.
Есть на лице моем место: лети и садись,
черная кряква, чирок, шилохвость и кулик,
чернеть, лысуха.
Ясень и пихта, фиалковый корень и тис,
лотос подземных озер, золотой сердолик
в органе слуха.
Лебедь-кликун заселяет мое зимовьё,
сокол-сапсан обручает Сихотэ-Алинь
с синей пучиной.
Все это дело мое, не твое, а мое.
Если немного твое, то похоже на клин
стаи гусиной.
Коллекционным оружием грянем хвалу
нищему ветру, плутая по грани земли,
как молокане.
Мордой возили и нас по чужому столу.
И государственный пыльник в базарной пыли
на великане.
Нечего мне процитировать — точит слезу
сердце, набитое ритмами со стороны
Азии Средней.
Мы недоели морошки — в дремучем лесу
буйные крики летят из кремлевской стены,
пьяные бредни.
Честный язык, намоловший немало вранья,
шаг по брусчатке, впечатанный в камень сырой,
горькое горе.
Сколок погибшего слова под сердцем храня,
около рынка по воздуху шарю рукой
в северном море.
* * *
Риб Эвальд Карлович
Поэту Борису Ручьеву
Соловей в лесу поет
Весь свой век короткий
И себя он раздает
До последней нотки.
Всю Россию восхитил
Мастерской руладой,
Но не ждал он, не просил
От людей награды.
* * *
Николай Глазков
Послание Мише Луконину
Луконин Миша! Ты теперь
Как депутат почти,
И я пишу письмо тебе,
А ты его прочти.
С чего бы мне его начать?
Начну с того хотя б,
Что можешь и не отвечать
Мне ямбами на ямб.
Ты побывал в огне, в воде
И в медных трубах, но
Кульчицкий где, Майоров где
Сегодня пьют вино?
Для них остановились дни
И солнца луч угас,
Но если есть тот свет, они
Что думают про нас?
Они поэзию творят
В неведомой стране.
Они сегодня говорят,
Наверно, обо мне.
Что я остался в стороне
От жизненных побед…
Нет! Нужен я своей стране
Как гений и поэт!
…Встает рассвет. Я вижу дом.
Течет из дома дым.
И я, поэт, пишу о том,
Что буду молодым…
Не молодым поэтом, нет,
Поскольку в наши дни
Понятье «молодой поэт»
Ругательству сродни.
Мол, если молодой, то он
Валяет дурака,
И как поэт не завершен,
И не поэт пока.
Нет! Просто мир побьет войну
В безбрежности земной,
Тогда я молодость верну,
Утраченную мной!..
Пусть я тебя не изумил
И цели не достиг;
Но, как стихи стоят за мир,
Так станет мир за стих!
Гусь, у которого горло забито песком.
Песня варяга, и профиль его на щите,
вбитом в песчаник.
Русь, по которой гуляют басмач и ревком.
Стаи русалок, закатанных по простоте
в битум, печальник.
Есть на лице моем место: лети и садись,
черная кряква, чирок, шилохвость и кулик,
чернеть, лысуха.
Ясень и пихта, фиалковый корень и тис,
лотос подземных озер, золотой сердолик
в органе слуха.
Лебедь-кликун заселяет мое зимовьё,
сокол-сапсан обручает Сихотэ-Алинь
с синей пучиной.
Все это дело мое, не твое, а мое.
Если немного твое, то похоже на клин
стаи гусиной.
Коллекционным оружием грянем хвалу
нищему ветру, плутая по грани земли,
как молокане.
Мордой возили и нас по чужому столу.
И государственный пыльник в базарной пыли
на великане.
Нечего мне процитировать — точит слезу
сердце, набитое ритмами со стороны
Азии Средней.
Мы недоели морошки — в дремучем лесу
буйные крики летят из кремлевской стены,
пьяные бредни.
Честный язык, намоловший немало вранья,
шаг по брусчатке, впечатанный в камень сырой,
горькое горе.
Сколок погибшего слова под сердцем храня,
около рынка по воздуху шарю рукой
в северном море.
* * *
Риб Эвальд Карлович
Поэту Борису Ручьеву
Соловей в лесу поет
Весь свой век короткий
И себя он раздает
До последней нотки.
Всю Россию восхитил
Мастерской руладой,
Но не ждал он, не просил
От людей награды.
* * *
Николай Глазков
Послание Мише Луконину
Луконин Миша! Ты теперь
Как депутат почти,
И я пишу письмо тебе,
А ты его прочти.
С чего бы мне его начать?
Начну с того хотя б,
Что можешь и не отвечать
Мне ямбами на ямб.
Ты побывал в огне, в воде
И в медных трубах, но
Кульчицкий где, Майоров где
Сегодня пьют вино?
Для них остановились дни
И солнца луч угас,
Но если есть тот свет, они
Что думают про нас?
Они поэзию творят
В неведомой стране.
Они сегодня говорят,
Наверно, обо мне.
Что я остался в стороне
От жизненных побед…
Нет! Нужен я своей стране
Как гений и поэт!
…Встает рассвет. Я вижу дом.
Течет из дома дым.
И я, поэт, пишу о том,
Что буду молодым…
Не молодым поэтом, нет,
Поскольку в наши дни
Понятье «молодой поэт»
Ругательству сродни.
Мол, если молодой, то он
Валяет дурака,
И как поэт не завершен,
И не поэт пока.
Нет! Просто мир побьет войну
В безбрежности земной,
Тогда я молодость верну,
Утраченную мной!..
Пусть я тебя не изумил
И цели не достиг;
Но, как стихи стоят за мир,
Так станет мир за стих!
* * *
Иосиф Бродский
Иосиф Бродский
Сонет к Глебу Горбовскому
Мы не пьяны. Мы, кажется, трезвы.
И, вероятно, вправду мы поэты,
Когда, кропая странные сонеты,
Мы говорим со временем на "вы".
И вот плоды -- ракеты, киноленты.
И вот плоды: велеречивый стих...
Рисуй, рисуй, безумное столетье,
Твоих солдат, любовников твоих,
Смакуй их своевременную славу!
Зачем и правда, все-таки, -- неправда,
Зачем она испытывает нас...
И низкий гений твой переломает ноги,
Чтоб осознать в шестидесятый раз
Итоги странствований, странные итоги.
* * *
Александр Намировский
Памяти Николая Майорова
Ещё не выпал наш последний снег,
Тот самый снег, что принесёт разлуку.
И мы гребём с тобою, как во сне,
Лопатами, как вёслами, сквозь вьюгу.
Ещё не выпал наш последний снег.
Я говорю вам: нет, ещё не выпал,
Ещё растают в солнечном огне
Осколки дней, как смёрзшиеся глыбы,
Ещё ударит над полями гром,
Ещё цветы мы будем мять по лугу,
Ещё своих любимых мы найдём,
Как музыкант находит тон по слуху.
Встают сугробы, словно берега,
И мы скользим меж ними, как фрегаты.
И музыка звучит издалека,
Прекрасная, как лунная соната.
Свистит позёмка, заметая след.
И нет уже обратно нам дороги,
И в мир, как в недописанный сонет,
Ведут нас ослепительные строки.
* * *
Александр Гитович
Мы не пьяны. Мы, кажется, трезвы.
И, вероятно, вправду мы поэты,
Когда, кропая странные сонеты,
Мы говорим со временем на "вы".
И вот плоды -- ракеты, киноленты.
И вот плоды: велеречивый стих...
Рисуй, рисуй, безумное столетье,
Твоих солдат, любовников твоих,
Смакуй их своевременную славу!
Зачем и правда, все-таки, -- неправда,
Зачем она испытывает нас...
И низкий гений твой переломает ноги,
Чтоб осознать в шестидесятый раз
Итоги странствований, странные итоги.
* * *
Александр Намировский
Памяти Николая Майорова
Ещё не выпал наш последний снег,
Тот самый снег, что принесёт разлуку.
И мы гребём с тобою, как во сне,
Лопатами, как вёслами, сквозь вьюгу.
Ещё не выпал наш последний снег.
Я говорю вам: нет, ещё не выпал,
Ещё растают в солнечном огне
Осколки дней, как смёрзшиеся глыбы,
Ещё ударит над полями гром,
Ещё цветы мы будем мять по лугу,
Ещё своих любимых мы найдём,
Как музыкант находит тон по слуху.
Встают сугробы, словно берега,
И мы скользим меж ними, как фрегаты.
И музыка звучит издалека,
Прекрасная, как лунная соната.
Свистит позёмка, заметая след.
И нет уже обратно нам дороги,
И в мир, как в недописанный сонет,
Ведут нас ослепительные строки.
* * *
Александр Гитович
ВОЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
Мы знали всё: дороги отступлений,
Забитые машинами шоссе,
Всю боль и горечь первых поражений,
Все наши беды и печали все.
И нам с овчинку показалось небо
Сквозь «мессершмиттов» яростную тьму,
И тот, кто с нами в это время не был, —
Не стоит и рассказывать тому.
За днями дни. Забыть бы, бога ради,
Солдатских трупов мерзлые холмы,
Забыть, как голодали в Ленинграде
И скольких там не досчитались мы.
Нет, не забыть — и забывать не надо
Ни злобы, ни печали, ничего...
Одно мы знали там, у Ленинграда,
Что никогда не отдадим его.
И если уж газетчиками были,
И звали в бой на недругов лихих,
То с летчиками вместе их бомбили
И с пехотинцами стреляли в них.
И, возвратись в редакцию с рассветом,
Мы спрашивали: живы ли друзья?
Пусть говорить не принято об этом,
Но и в стихах не написать нельзя.
Стихи не для печати. Нам едва ли
Друзьями станут те редактора,
Что даже свиста пули не слыхали, —
А за два года б услыхать пора.
Да будет так. На них мы не в обиде.
Они и ныне, веря в тишину,
За мирными приемниками сидя,
По радио прослушают войну.
Но в час, когда советские знамена
Победа светлым осенит крылом,
Мы, как солдаты, знаем поименно,
Кому за нашим пировать столом.
Август 1943
* * *
Юрий Ряшенцев
Мы знали всё: дороги отступлений,
Забитые машинами шоссе,
Всю боль и горечь первых поражений,
Все наши беды и печали все.
И нам с овчинку показалось небо
Сквозь «мессершмиттов» яростную тьму,
И тот, кто с нами в это время не был, —
Не стоит и рассказывать тому.
За днями дни. Забыть бы, бога ради,
Солдатских трупов мерзлые холмы,
Забыть, как голодали в Ленинграде
И скольких там не досчитались мы.
Нет, не забыть — и забывать не надо
Ни злобы, ни печали, ничего...
Одно мы знали там, у Ленинграда,
Что никогда не отдадим его.
И если уж газетчиками были,
И звали в бой на недругов лихих,
То с летчиками вместе их бомбили
И с пехотинцами стреляли в них.
И, возвратись в редакцию с рассветом,
Мы спрашивали: живы ли друзья?
Пусть говорить не принято об этом,
Но и в стихах не написать нельзя.
Стихи не для печати. Нам едва ли
Друзьями станут те редактора,
Что даже свиста пули не слыхали, —
А за два года б услыхать пора.
Да будет так. На них мы не в обиде.
Они и ныне, веря в тишину,
За мирными приемниками сидя,
По радио прослушают войну.
Но в час, когда советские знамена
Победа светлым осенит крылом,
Мы, как солдаты, знаем поименно,
Кому за нашим пировать столом.
Август 1943
* * *
Юрий Ряшенцев
Тридцатые. Сад Мандельштама
Лазурь сквозь зелень в сентябре, как в мае, полна безумием.
И там, за парком, — там труба хромая дымит Везувием.
В Барвихе — солнце, и дождя ни капли над дачной розою.
А бедный Горький на далеком Капри не ладит с прозою.
А бедный Бедный пьет средь книжных полок, не позван к Сталину, —
за то, чтоб был он счастлив, здрав и долог, чтоб — лет до ста ему.
Не помню, право, поздно принесенный в ряды победные,
где М.Голодный, где Артем Веселый. Но оба — бедные.
Один лишь только везунок, счастливчик с верблюжьим профилем,
бредет по стогнам — то споет мотивчик, то глянет нобилем.
Еще б не нобиль! Через плац и прямо, сквозь тишь без просыпа,
куда придет он? К саду Мандельштама, пускай не Осипа.
В Стране Советов глух для всех советов народ Хамовников.
Уж он таков: все знают лишь поэтов — никто чиновников.
Горбатый рок наш, он чему подобен?.. Но густ, хоть режь его.
с хлебозавода, радостен и сдобен, дух хлеба свежего!..
И сушь, и тишь. Но кроной неохотно клен к дубу клонится.
Лишь с плаца слышно: то ли полк пехотный, а то ли конница.
А может, рока, — легок на помине, — шаги державные.
Так два верблюда, встретившись в пустыне, кивнут, как равные.
* * *
Глеб Семёнов
Лазурь сквозь зелень в сентябре, как в мае, полна безумием.
И там, за парком, — там труба хромая дымит Везувием.
В Барвихе — солнце, и дождя ни капли над дачной розою.
А бедный Горький на далеком Капри не ладит с прозою.
А бедный Бедный пьет средь книжных полок, не позван к Сталину, —
за то, чтоб был он счастлив, здрав и долог, чтоб — лет до ста ему.
Не помню, право, поздно принесенный в ряды победные,
где М.Голодный, где Артем Веселый. Но оба — бедные.
Один лишь только везунок, счастливчик с верблюжьим профилем,
бредет по стогнам — то споет мотивчик, то глянет нобилем.
Еще б не нобиль! Через плац и прямо, сквозь тишь без просыпа,
куда придет он? К саду Мандельштама, пускай не Осипа.
В Стране Советов глух для всех советов народ Хамовников.
Уж он таков: все знают лишь поэтов — никто чиновников.
Горбатый рок наш, он чему подобен?.. Но густ, хоть режь его.
с хлебозавода, радостен и сдобен, дух хлеба свежего!..
И сушь, и тишь. Но кроной неохотно клен к дубу клонится.
Лишь с плаца слышно: то ли полк пехотный, а то ли конница.
А может, рока, — легок на помине, — шаги державные.
Так два верблюда, встретившись в пустыне, кивнут, как равные.
* * *
Глеб Семёнов
Когда погребают эпоху
О, как вам дышится средь комаровских сосен?
Кладбищенский предел отраден и несносен.
Оградки тесные, как дачные заборы,
и пусть вполголоса, но те же разговоры.
Единственность свою опасно знать заране.
Над бегом времени, как Федра в балагане,
вы, так и видится, стоите без оглядки,
и стынут на ветру классические складки.
Уже успели всех угробить и заямить.
Ваш черно-белый стих шифрованней, чем память.
Дивились недруги надменной вашей силе.
Четыре мальчика чугунный шлейф носили.
Великая вдова, наследница по праву
зарытых без вести, свою зарывших славу,
когда самой себе вы памятником стали,
не пусто ль было вам одной на пьедестале?
Где Осип? Где Борис? Где странница Марина?
Беспамятство трудней открытого помина.
Вас восхваляют те, кто их хулил доселе.
Перед разлукою вы даже не присели.
И понимаются глухие ваши речи.
И занимаются сухие ваши свечи.
Мы отпеваем вас, мы яму вам копаем,
Мы на казенный счет эпоху погребаем.
И вырастает крест на молодом погосте.
И топчутся вокруг непрошенные гости.
Но - согласились бы вы разве под ракитой,
в глуши какой-нибудь, быть без вести зарытой?!
* * *
Михаил Фёдорович Тимошечкин
ПОЭТАМ ФРОНТОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Поэты фронтового поколения,
Вот бы однажды светлым майским днём
На страх врагам, друзьям на удивление
Свести вас в построении одном.
Отдать бы всем властям распоряжение:
Найти прошедших сквозь огонь и дым,
Спервоначалу — кто ушёл в сражение
И числится поныне молодым,
Поставить на довольствие провизией,
В учёте строгость проявив вдвойне...
Вас собралась бы целая дивизия
И даже больше — павших на войне.
Поверженные минами, снарядами,
Не найденные в мёртвых и в живых,
Увенчанные славными наградами
И вовсе не имеющие их,
Поэмами, стихами, прибаутками
Прошли бы вы в строю за взводом взвод,
Солдатскими отчаянными шутками,
Двустишиями пламенных острот,
Весёлыми и грустными куплетами,
Нисколь не заглушёнными пальбой,
И песнями, ни разу не пропетыми,
Навеки унесёнными с собой...
За вами — арьергардною пехотою
Шагнёт живущих сводная семья.
И с этой уцелевшей полуротою
Как рядовой пойду последним я, —
Чтоб до конца на вас держать равнение,
Чтоб только правду взять в стихи свои,
Поэты фронтового поколения,
Великие товарищи мои.
* * *
О, как вам дышится средь комаровских сосен?
Кладбищенский предел отраден и несносен.
Оградки тесные, как дачные заборы,
и пусть вполголоса, но те же разговоры.
Единственность свою опасно знать заране.
Над бегом времени, как Федра в балагане,
вы, так и видится, стоите без оглядки,
и стынут на ветру классические складки.
Уже успели всех угробить и заямить.
Ваш черно-белый стих шифрованней, чем память.
Дивились недруги надменной вашей силе.
Четыре мальчика чугунный шлейф носили.
Великая вдова, наследница по праву
зарытых без вести, свою зарывших славу,
когда самой себе вы памятником стали,
не пусто ль было вам одной на пьедестале?
Где Осип? Где Борис? Где странница Марина?
Беспамятство трудней открытого помина.
Вас восхваляют те, кто их хулил доселе.
Перед разлукою вы даже не присели.
И понимаются глухие ваши речи.
И занимаются сухие ваши свечи.
Мы отпеваем вас, мы яму вам копаем,
Мы на казенный счет эпоху погребаем.
И вырастает крест на молодом погосте.
И топчутся вокруг непрошенные гости.
Но - согласились бы вы разве под ракитой,
в глуши какой-нибудь, быть без вести зарытой?!
* * *
Михаил Фёдорович Тимошечкин
ПОЭТАМ ФРОНТОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Поэты фронтового поколения,
Вот бы однажды светлым майским днём
На страх врагам, друзьям на удивление
Свести вас в построении одном.
Отдать бы всем властям распоряжение:
Найти прошедших сквозь огонь и дым,
Спервоначалу — кто ушёл в сражение
И числится поныне молодым,
Поставить на довольствие провизией,
В учёте строгость проявив вдвойне...
Вас собралась бы целая дивизия
И даже больше — павших на войне.
Поверженные минами, снарядами,
Не найденные в мёртвых и в живых,
Увенчанные славными наградами
И вовсе не имеющие их,
Поэмами, стихами, прибаутками
Прошли бы вы в строю за взводом взвод,
Солдатскими отчаянными шутками,
Двустишиями пламенных острот,
Весёлыми и грустными куплетами,
Нисколь не заглушёнными пальбой,
И песнями, ни разу не пропетыми,
Навеки унесёнными с собой...
За вами — арьергардною пехотою
Шагнёт живущих сводная семья.
И с этой уцелевшей полуротою
Как рядовой пойду последним я, —
Чтоб до конца на вас держать равнение,
Чтоб только правду взять в стихи свои,
Поэты фронтового поколения,
Великие товарищи мои.
* * *
Геннадий Красников
МЫ ДРУЖИЛИ С ФРОНТОВИКАМИ…
Памяти Е. Винокурова, М. Львова, Н. Старшинова, Ф. Сухова, В. Шефнера, М. Соболя, Н. Панченко, В. Карпова, А. Межирова, М. Борисова...
– поколения фронтовиков
Мы дружили с фронтовиками,
с настоящими мужиками,
ыть почётно учениками
у великих отцов своих –
тех, что скрыты уже веками
под осыпавшимися венками,
под летящими вслед плевками
на святые могилы их.
Знаем, что они пережили,
знаем, что они заслужили
и какие песни сложили, –
вместе с ними пели не раз…
В майский день за Победу пили,
а бывало, и слёзы лили,
вспоминая, как протрубили
им архангелы – грозный час!...
Ну так, что же, дети и внуки,
молча мы опускаем руки,
чтоб могли какие-то суки
пачкать память старых солдат?
Всё сдадим – без стыда и муки?
Впереди – подлый смех и трюки,
пляски под похоронные звуки…
Позади – Москва, Сталинград!..
* * *
Борис Чичибабин
МЫ ДРУЖИЛИ С ФРОНТОВИКАМИ…
Памяти Е. Винокурова, М. Львова, Н. Старшинова, Ф. Сухова, В. Шефнера, М. Соболя, Н. Панченко, В. Карпова, А. Межирова, М. Борисова...
– поколения фронтовиков
Мы дружили с фронтовиками,
с настоящими мужиками,
ыть почётно учениками
у великих отцов своих –
тех, что скрыты уже веками
под осыпавшимися венками,
под летящими вслед плевками
на святые могилы их.
Знаем, что они пережили,
знаем, что они заслужили
и какие песни сложили, –
вместе с ними пели не раз…
В майский день за Победу пили,
а бывало, и слёзы лили,
вспоминая, как протрубили
им архангелы – грозный час!...
Ну так, что же, дети и внуки,
молча мы опускаем руки,
чтоб могли какие-то суки
пачкать память старых солдат?
Всё сдадим – без стыда и муки?
Впереди – подлый смех и трюки,
пляски под похоронные звуки…
Позади – Москва, Сталинград!..
* * *
Борис Чичибабин
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ВИДЕНИЯ В НАЧАЛЕ СЕМИДЕСЯТЫХ
О Господи, подай нам всем скончаться за год
до часа, как Китай пойдет войной на Запад.
Для напасти такой, что вскорости накатит,
ни Дантов и ни Гой у вечности не хватит.
Исполнится с лихвой пророчество рязанца:
над Русью и Литвой удары разразятся.
Прислушайся к земле в ознобе и тревоге:
беда уже в седле и страх уже в дороге.
Нашествие скотин с головками из воска,
как будто бы с картин Иеронима Босха.
Голодная орда, чьи помыслы кровавы,
растопчет города греховности и славы.
Ничто не оградит от кольев и укусов
кричащих Афродит и стонущих Иисусов.
Когда свершится суд, под клики негодяев
в один костер пойдут и Ленин, и Бердяев.
Горами мертвых тел обрушится эпоха,
и тем, кто уцелел, равно придется плохо.
О дьвол, чем поишь? Никто так не поил нас.
В развалинах Париж, Флоренция и Вильнюс.
Весь мир пойдет на снедь для той орды бродячей,
да так, что даже смерть покажется удачей.
С изысканностью мук Европе спорить нечем:
слыхали, чтоб бамбук рос в теле человечьем?
В кишку воткни, ловчась, и боль навив мотками,
по сантиметру в час пойдет вгрызаться в ткани.
И желтый сатана с восточною усмешкой
поднимется со дна над жизнью головешкой…
Рекомая беда, венчающая сцена,
вот не скажу когда, но будет непременно.
А чтоб не думал ты, что я пекусь о малом,
свои — желтым-желты по нынешним журналам.
Там, кровью обагрен, шлет вязкие повестки
на дружеский погром Петруша Верховенский.
Воздев на шею крест и всю родню прирезав,
на гноище воскрес кровавейший из бесов.
История, тю-тю! Кончайте ваши пренья,
а умников — к ногтю, земле для удобренья.
Что сеял — то пожни: мы разве были добрыми?
О Боже, ниспошли хотя б скончаться вовремя.
О Господи, подай нам всем подохнуть за год
до часа, как Китай навалится на Запад.
* * *
Роберт Рождественский
О Господи, подай нам всем скончаться за год
до часа, как Китай пойдет войной на Запад.
Для напасти такой, что вскорости накатит,
ни Дантов и ни Гой у вечности не хватит.
Исполнится с лихвой пророчество рязанца:
над Русью и Литвой удары разразятся.
Прислушайся к земле в ознобе и тревоге:
беда уже в седле и страх уже в дороге.
Нашествие скотин с головками из воска,
как будто бы с картин Иеронима Босха.
Голодная орда, чьи помыслы кровавы,
растопчет города греховности и славы.
Ничто не оградит от кольев и укусов
кричащих Афродит и стонущих Иисусов.
Когда свершится суд, под клики негодяев
в один костер пойдут и Ленин, и Бердяев.
Горами мертвых тел обрушится эпоха,
и тем, кто уцелел, равно придется плохо.
О дьвол, чем поишь? Никто так не поил нас.
В развалинах Париж, Флоренция и Вильнюс.
Весь мир пойдет на снедь для той орды бродячей,
да так, что даже смерть покажется удачей.
С изысканностью мук Европе спорить нечем:
слыхали, чтоб бамбук рос в теле человечьем?
В кишку воткни, ловчась, и боль навив мотками,
по сантиметру в час пойдет вгрызаться в ткани.
И желтый сатана с восточною усмешкой
поднимется со дна над жизнью головешкой…
Рекомая беда, венчающая сцена,
вот не скажу когда, но будет непременно.
А чтоб не думал ты, что я пекусь о малом,
свои — желтым-желты по нынешним журналам.
Там, кровью обагрен, шлет вязкие повестки
на дружеский погром Петруша Верховенский.
Воздев на шею крест и всю родню прирезав,
на гноище воскрес кровавейший из бесов.
История, тю-тю! Кончайте ваши пренья,
а умников — к ногтю, земле для удобренья.
Что сеял — то пожни: мы разве были добрыми?
О Боже, ниспошли хотя б скончаться вовремя.
О Господи, подай нам всем подохнуть за год
до часа, как Китай навалится на Запад.
* * *
Роберт Рождественский
Подкупленный
«Все советские писатели подкуплены…»
Так о нас пишут
Я действительно подкуплен.
Я подкуплен.
Без остатка.
И во сне.
И наяву.
Уверяют советологи:
«Погублен…»
Улыбаются товарищи:
«Живу!..»
Я подкуплен
ноздреватым льдом кронштадтским.
И акцентом
коменданта-латыша.
Я подкуплен
военкомами гражданской
и свинцовою водою
Сиваша…
Я еще подкуплен снегом
белым-белым.
Иртышом
и предвоенной тишиной.
Я подкуплен кровью
павших в сорок первом.
Каждой каплей.
До единой.
До одной.
А еще подкуплен я костром.
Случайным,
как в шальной игре
десятка при тузе.
Буйством красок Бухары.
Бакинским чаем.
И спокойными парнями с ЧТЗ…
Подкупала
вертолетная кабина,
ночь
и кубрика
качающийся пол!..
Как-то женщина пришла.
И подкупила.
Подкупила —
чем?—
не знаю до сих пор.
Но тогда-то жизнь
я стал считать по веснам.
Не синицу жду отныне,
а скворца.
Подкупила дочь
характером стервозным, —
вот уж точно,
что ни в мать
и ни в отца…
Подкупил Расул
насечкой на кинжале.
Клокотанием —
ангарская струя.
Я подкуплен
и Палангой,
и Кижами.
Всем, что знаю.
И чего не знаю я…
Я подкуплен зарождающимся словом,
неразмененным пока на пустяки.
Я подкуплен
Маяковским и Светловым,
и Землей,
в которой сбудутся
стихи!..
И не все еще костры отполыхали.
и судьба еще угадана не вся…
Я подкуплен.
Я подкуплен
с потрохами.
И поэтому купить меня
нельзя.
* * *
Дон Аминадо
ПРО БЕЛОГО БЫЧКА
Мы будем каяться пятнадцать лет подряд.
С остервенением. С упорным сладострастьем.
Мы разведем такой чернильный яд
И будем льстить с таким подобострастьем
Державному Хозяину Земли,
Как говорит крылатое реченье,
Что нас самих, распластанных в пыли,
Стошнит и даже вырвет в заключенье.
Мы станем чистить, строить и тесать.
И сыпать рожь в прохладный зев амбаров.
Славянской вязью вывески писать
И вожделеть кипящих самоваров.
Мы будем ненавидеть Кременчуг
За то, что в нем не собиралось вече.
Нам станет чужд и неприятен юг
За южные неправильности речи.
Зато какой-нибудь Валдай или Торжок
Внушат немалые восторги драматургам.
И умилит нас каждый пирожок
В Клину, между Москвой и Петербургом.
Так протекут и так пройдут года:
Корявый зуб поддерживает пломба.
Наступит мир. И только иногда
Взорвется освежающая бомба.
Потом опять увязнет ноготок.
И станет скучен самовар московский.
И лихача, ватрушку и Восток
Нежданно выбранит Димитрий Мережковский.
Потом... О, Господи, Ты только вездесущ
И волен надо всем преображеньем!
Но, чую, вновь от беловежских пущ
Пойдет начало с прежним продолженьем.
И вкруг оси опишет новый круг
История, бездарная, как бублик.
И вновь на линии Вапнярка-Кременчуг
Возникнет до семнадцати республик.
И чье-то право обрести в борьбе
Конгресс Труда попробует в Одессе.
Тогда, о, Господи, возьми меня к Себе,
Чтоб мне не быть на трудовом конгрессе!
* * *
Дон Аминадо
ПРИЧИНА ВСЕХ ПРИЧИН
А как пили! А как ели!
И какие были либералы!..
Чехов
У одной знакомой беженки,
У жеманницы, у неженки,
Растерявшей женихов,
Отыскал я томик свеженький
Иго-Игоря стихов.
Знай свисти себе, насвистывай
И странички перелистывай,
Упивайся и читай
Про веселый, про батистовый,
Гладко выглаженный рай.
В душу глянешь - вся изранена,
Вся печалью затуманена,
А уста должны молчать.
Вот тогда-то Северянина
И приятно почитать.
Слаще сладостной магнезии
Откровения поэзии,
Повествующей о том,
Как в далекой Полинезии
Под маисовым кустом
Не клянутся и не божатся,
Горьким горем не тревожатся,
Фиги-финики едят
И лежат себе, и множатся,
И на звездочки глядят.
Все мужчины - королевичи,
Или принцы, иль царевичи,
В крайнем случае князья.
А про женский род, про девичий
Лучше выдумать нельзя.
Очи синие, наивные.
Плечи белые, узывные.
Поглядишь - царица Маб.
И красоты эти дивные
Охраняет черный раб.
Ну не персик, ну не груша ли
Петербургский этот плод?!
Как мы жили! Как мы кушали!
Что читали, что мы слушали
У гранитов невских вод?!
Забирались в норки, в домики,
Перелистывали томики,
Золотой ценя обрез.
А какие были комики
И любители поэз!..
И порой я с грустью думаю,
За судьбой следя угрюмою,
Что она - итог грехов,
И что все явилось суммою,
Главным образом, стихов!
Тут - мужик, а мы - о грации.
Тут - навоз, а мы - в тимпан!..
Так от мелодекламации
Погибают даже нации,
Как лопух и как бурьян.
* * *
Дон Аминадо
ИЗ СБОРНИКА "В ТЕ БАСНОСЛОВНЫЕ ГОДА"
"ПРОЛЕГОМЕНЫ"
- Долой Пушкина и Белинского,
Читайте Степняка-Кравчинского!
Прочитали, марш вперед.
Девятьсот пятый год.
От нигилизма - ножки да рожки.
Альманахи в зеленой обложке.
Андреев басит в Куоккале,
Горький поет о соколе.
Буревестник взмывает вдаль.
Читает актер под рояль.
- Эх, грусть - тоска...
Дайте нам босяка!
Идет тип в фуражке.
Грудь. На груди подтяжки.
Расчищает путь боксом,
Говорит парадоксом.
Я это "Я", не трожь!
Молодежь в дрожь...
Дрожит, но ходит попарно.
Читает стихи Верхарна.
Плюет плевком в пространство,
Говорит, что все мещанство...
А ей навстречу Санин.
Мне, говорит, странен
Такой взгляд на вещи!
А сам глядит зловеще,
И сразу - на жен и дев,
От Ницше осатанев.
А рояль уже сам играет.
А актер на измор читает.
Начинается ловля моментов.
Приезд, гастроль декадентов.
Стенька Разин в опале.
Босяки совсем пропали.
Полная перемена вкусов.
На эстраде Валерий Брюсов.
Цевницы. Блудницы. Царицы.
Альбатросы из-за границы.
Любовь должна быть жестокой.
У девушек глаза с поволокой.
Машу зовут Марго.
А в оркестре уже - танго...
Бьют отбой символисты.
Идут толпой футуристы.
Паника. Давка. Страх.
Облако, все в штанах!
Война. Гимны. Пушки.
Полный апофеоз теплушки.
Глыба ползет, сползает.
А Ходотов все читает.
На балкон выходит Ленин.
Под балконом стоит Есенин,
Плачет слезою жалкой,
Бьет Айседору палкой.
А актер, на контракт без срока,
Читает "Двенадцать" Блока.
* * *
Дон Аминадо
МОНОЛОГ
Милостивые государи,
Блеск и цвет поколенья.
Признаемся честно
В порыве откровенья!
Зажглась наша молодость
Свечой яркого воска,
А пропала наша молодость,
Погибла, как папироска...
В Европе и в Америке
Танцевали и пели
Так, что стекла дрожали,
Так, что стекла звенели,
А мы спорили о Боге,
Надрывали глотки.
Попадали в итоге
За железные решетки.
От всех семи повешенных
Берегли веревки.
Радовались, что Шаляпин
Ходит в поддевке.
Девушек не любили,
Находили, что развратно.
До изнеможения ходили
В народ и обратно.
Потом... то, чего не было,
Стало тем, что бывает.
Кто любит воспоминания,
Пусть вспоминает.
Развеялся во все стороны
Наш прах неизбывно.
Не клюют его даже вороны,
Потому что им противно.
* * *
Дон Аминадо
ЖИЛИ-БЫЛИ
«Все советские писатели подкуплены…»
Так о нас пишут
Я действительно подкуплен.
Я подкуплен.
Без остатка.
И во сне.
И наяву.
Уверяют советологи:
«Погублен…»
Улыбаются товарищи:
«Живу!..»
Я подкуплен
ноздреватым льдом кронштадтским.
И акцентом
коменданта-латыша.
Я подкуплен
военкомами гражданской
и свинцовою водою
Сиваша…
Я еще подкуплен снегом
белым-белым.
Иртышом
и предвоенной тишиной.
Я подкуплен кровью
павших в сорок первом.
Каждой каплей.
До единой.
До одной.
А еще подкуплен я костром.
Случайным,
как в шальной игре
десятка при тузе.
Буйством красок Бухары.
Бакинским чаем.
И спокойными парнями с ЧТЗ…
Подкупала
вертолетная кабина,
ночь
и кубрика
качающийся пол!..
Как-то женщина пришла.
И подкупила.
Подкупила —
чем?—
не знаю до сих пор.
Но тогда-то жизнь
я стал считать по веснам.
Не синицу жду отныне,
а скворца.
Подкупила дочь
характером стервозным, —
вот уж точно,
что ни в мать
и ни в отца…
Подкупил Расул
насечкой на кинжале.
Клокотанием —
ангарская струя.
Я подкуплен
и Палангой,
и Кижами.
Всем, что знаю.
И чего не знаю я…
Я подкуплен зарождающимся словом,
неразмененным пока на пустяки.
Я подкуплен
Маяковским и Светловым,
и Землей,
в которой сбудутся
стихи!..
И не все еще костры отполыхали.
и судьба еще угадана не вся…
Я подкуплен.
Я подкуплен
с потрохами.
И поэтому купить меня
нельзя.
* * *
Дон Аминадо
ПРО БЕЛОГО БЫЧКА
Мы будем каяться пятнадцать лет подряд.
С остервенением. С упорным сладострастьем.
Мы разведем такой чернильный яд
И будем льстить с таким подобострастьем
Державному Хозяину Земли,
Как говорит крылатое реченье,
Что нас самих, распластанных в пыли,
Стошнит и даже вырвет в заключенье.
Мы станем чистить, строить и тесать.
И сыпать рожь в прохладный зев амбаров.
Славянской вязью вывески писать
И вожделеть кипящих самоваров.
Мы будем ненавидеть Кременчуг
За то, что в нем не собиралось вече.
Нам станет чужд и неприятен юг
За южные неправильности речи.
Зато какой-нибудь Валдай или Торжок
Внушат немалые восторги драматургам.
И умилит нас каждый пирожок
В Клину, между Москвой и Петербургом.
Так протекут и так пройдут года:
Корявый зуб поддерживает пломба.
Наступит мир. И только иногда
Взорвется освежающая бомба.
Потом опять увязнет ноготок.
И станет скучен самовар московский.
И лихача, ватрушку и Восток
Нежданно выбранит Димитрий Мережковский.
Потом... О, Господи, Ты только вездесущ
И волен надо всем преображеньем!
Но, чую, вновь от беловежских пущ
Пойдет начало с прежним продолженьем.
И вкруг оси опишет новый круг
История, бездарная, как бублик.
И вновь на линии Вапнярка-Кременчуг
Возникнет до семнадцати республик.
И чье-то право обрести в борьбе
Конгресс Труда попробует в Одессе.
Тогда, о, Господи, возьми меня к Себе,
Чтоб мне не быть на трудовом конгрессе!
* * *
Дон Аминадо
ПРИЧИНА ВСЕХ ПРИЧИН
А как пили! А как ели!
И какие были либералы!..
Чехов
У одной знакомой беженки,
У жеманницы, у неженки,
Растерявшей женихов,
Отыскал я томик свеженький
Иго-Игоря стихов.
Знай свисти себе, насвистывай
И странички перелистывай,
Упивайся и читай
Про веселый, про батистовый,
Гладко выглаженный рай.
В душу глянешь - вся изранена,
Вся печалью затуманена,
А уста должны молчать.
Вот тогда-то Северянина
И приятно почитать.
Слаще сладостной магнезии
Откровения поэзии,
Повествующей о том,
Как в далекой Полинезии
Под маисовым кустом
Не клянутся и не божатся,
Горьким горем не тревожатся,
Фиги-финики едят
И лежат себе, и множатся,
И на звездочки глядят.
Все мужчины - королевичи,
Или принцы, иль царевичи,
В крайнем случае князья.
А про женский род, про девичий
Лучше выдумать нельзя.
Очи синие, наивные.
Плечи белые, узывные.
Поглядишь - царица Маб.
И красоты эти дивные
Охраняет черный раб.
Ну не персик, ну не груша ли
Петербургский этот плод?!
Как мы жили! Как мы кушали!
Что читали, что мы слушали
У гранитов невских вод?!
Забирались в норки, в домики,
Перелистывали томики,
Золотой ценя обрез.
А какие были комики
И любители поэз!..
И порой я с грустью думаю,
За судьбой следя угрюмою,
Что она - итог грехов,
И что все явилось суммою,
Главным образом, стихов!
Тут - мужик, а мы - о грации.
Тут - навоз, а мы - в тимпан!..
Так от мелодекламации
Погибают даже нации,
Как лопух и как бурьян.
* * *
Дон Аминадо
ИЗ СБОРНИКА "В ТЕ БАСНОСЛОВНЫЕ ГОДА"
"ПРОЛЕГОМЕНЫ"
- Долой Пушкина и Белинского,
Читайте Степняка-Кравчинского!
Прочитали, марш вперед.
Девятьсот пятый год.
От нигилизма - ножки да рожки.
Альманахи в зеленой обложке.
Андреев басит в Куоккале,
Горький поет о соколе.
Буревестник взмывает вдаль.
Читает актер под рояль.
- Эх, грусть - тоска...
Дайте нам босяка!
Идет тип в фуражке.
Грудь. На груди подтяжки.
Расчищает путь боксом,
Говорит парадоксом.
Я это "Я", не трожь!
Молодежь в дрожь...
Дрожит, но ходит попарно.
Читает стихи Верхарна.
Плюет плевком в пространство,
Говорит, что все мещанство...
А ей навстречу Санин.
Мне, говорит, странен
Такой взгляд на вещи!
А сам глядит зловеще,
И сразу - на жен и дев,
От Ницше осатанев.
А рояль уже сам играет.
А актер на измор читает.
Начинается ловля моментов.
Приезд, гастроль декадентов.
Стенька Разин в опале.
Босяки совсем пропали.
Полная перемена вкусов.
На эстраде Валерий Брюсов.
Цевницы. Блудницы. Царицы.
Альбатросы из-за границы.
Любовь должна быть жестокой.
У девушек глаза с поволокой.
Машу зовут Марго.
А в оркестре уже - танго...
Бьют отбой символисты.
Идут толпой футуристы.
Паника. Давка. Страх.
Облако, все в штанах!
Война. Гимны. Пушки.
Полный апофеоз теплушки.
Глыба ползет, сползает.
А Ходотов все читает.
На балкон выходит Ленин.
Под балконом стоит Есенин,
Плачет слезою жалкой,
Бьет Айседору палкой.
А актер, на контракт без срока,
Читает "Двенадцать" Блока.
* * *
Дон Аминадо
МОНОЛОГ
Милостивые государи,
Блеск и цвет поколенья.
Признаемся честно
В порыве откровенья!
Зажглась наша молодость
Свечой яркого воска,
А пропала наша молодость,
Погибла, как папироска...
В Европе и в Америке
Танцевали и пели
Так, что стекла дрожали,
Так, что стекла звенели,
А мы спорили о Боге,
Надрывали глотки.
Попадали в итоге
За железные решетки.
От всех семи повешенных
Берегли веревки.
Радовались, что Шаляпин
Ходит в поддевке.
Девушек не любили,
Находили, что развратно.
До изнеможения ходили
В народ и обратно.
Потом... то, чего не было,
Стало тем, что бывает.
Кто любит воспоминания,
Пусть вспоминает.
Развеялся во все стороны
Наш прах неизбывно.
Не клюют его даже вороны,
Потому что им противно.
* * *
Дон Аминадо
ЖИЛИ-БЫЛИ
Если б вдруг назад отбросить
Этих лет смятенный ряд,
Зачесать умело проседь,
Оживить унылый взгляд,
Горе - горечь, горечь - бремя,
Все - веревочкой завить,
Если б можно было время
На скаку остановить,
Чтоб до боли закусило
Злое время удила,
Чтоб воскликнуть с прежней силой -
Эх была, да не была!
Да раскрыть поутру ставни,
Да увидеть под окном
То, что стало стародавней
Былью, сказочкою, сном...
Этот снег, что так синеет,
Как нигде и никогда,
От которого пьянеет
Сердце раз и навсегда.
Синий снег, который режет,
Колет, жжет и холодит,
Этот снег, который нежит,
Нежит, душу молодит,
Эту легкость, эту тонкость,
Несказанность этих нег,
хрупкость эту, эту звонкость,
Эту ломкость, этот снег!
Если б нам, да в переулки,
В переулки, в тупички,
Где когда-то жили-были,
Жили-были дурачки,
Только жили, только были,
Что хотели, не смогли,
Говорили, что любили,
А сберечь, не сберегли...
* * *
Борис Чичибабин
О, дай нам Бог внимательных бессонниц...
О, дай нам Бог внимательных бессонниц,
чтоб каждый мог, придя под грубый кров
как самозванец, вдруг с далеких звонниц
услышать гул святых колоколов.
Той мзды печаль укорна и старинна,
щемит полынь, прощает синева.
О брат мой Осип и сестра Марина,
спасибо вам за судьбы и слова.
О, трижды нет! Не дерзок я, не ловок,
чтоб звать в родню двух лир безродный звон.
У ваших ног, натруженных, в оковах,
я нищ и мал. Не брезгуйте ж родством.
Когда в душе, как благовест Господний,
звучат стихи с воскреснувших страниц,
освободясь из дымной преисподней,
она лежит простершаяся ниц
и, слушая, наслушаться не может,
из тьмы чужой пришедшая домой,
и жалкий век, что ею в муках прожит,
не страшен ей, блаженной и немой.
И думает беглянка ниоткуда:
«Спасибо всем, кто дал мне их прочесть.
Как хорошо, что есть на свете Чудо,
хоть никому, хоть изредка, но есть.
А где их прах, в какой ночи овражной?
И ей известно ль, ведает ли он,
какой рубеж, возвышенный и страшный,
в их разобщенных снах запечатлен?
Пусть не замучит совесть негодяя,
но чуткий слух откликнется на зов…»
Так думает душа моя, когда я
не сплю ночей над истиной стихов.
О, ей бы так, на ангельском морозе б
пронзить собой все зоны и слои.
Сестра моя Марина, брат мой Осип,
спасибо вам, сожженные мои!
Спасибо вам, о грешные, о божьи,
в святых венцах веселий и тревог!
Простите мне, что я намного позже
услышал вас, чем должен был и мог.
Таков наш век. Не слышим и не знаем.
Одно словечко в Вечность обронив,
не грежу я высоким вашим раем.
Косноязычен, робок и ленив,
всю жизнь молюсь без имени и жеста, —
и ты, сестра, за боль мою моли,
чтоб ей занять свое святое место
у ваших ног, нетленные мои.
* * *
Геннадий Иванов
СВИДЕТЕЛЬ
Я видел поэтическое дерево –
Я видел Соколова, Передреева,
И Кузнецова, Тряпкина, и Сухова…
Я видел их и слышал, и любил.
Казанцева, Жигулина, Горбовского,
И Решетова, но березниковского…
Рубцова я не видел, но поистине
Он рядом, ближе многих ближних был.
Да, это было дерево так дерево.
Душа при нём жила, любила, верила.
Застал я время дивное в поэзии,
Чему я рад и по чему грущу.
И альманахи были интересные,
И вечера поэзии чудесные.
И много значили тогда для многих строки
В Москве и в Питере, и во Владивостоке…
* * *
Владимир Ефимович Молчанов
М.Д. Львову
Поэты фронтового поколения,
Спасавшие страну от покорения,
Писавшие не строки мимолетные,
А огненные строчки пулеметные, -
Себя пред вашим голосом уверенным
Я чувствую солдатом необстрелянным,
А перед вашей нежностью и кротостью
Стою я с восхищением и робостью.
Поэты фронтового поколения,
Вы жили все по Божьему велению,
Вам пелось нелегко и песня – с горестью,
И стали на земле для нас вы совестью.
Привычна вам вполне судьба походная,
Изношена давно шинель пехотная,
Но не забыты – нет! – бои, сражения:
Гремят они в стихах, как продолжение.
Поэты фронтового поколения,
Я думаю о вас не без волнения,
О том, что на земле вы все не вечные,
Но людям и себе, и долгу верные.
О, если бы в строю одном сомкнулись вы –
Плечом к плечу легко вы прикоснулись бы,
Но строй разомкнут ваш – ждет обновления,
Осталось от полка – лишь отделение.
Поэты фронтового поколения,
Мы ваше молодое пополнение,
Не нюхавшее пороху военного,
Не знавшее потери сокровенного.
Мы зла и горя мало в жизни вынесли,
Но на крови погибших все мы выросли,
И держим мы всегда на вас равнение,
Поэты фронтового поколения.
* * *
Отцы – фронтовики – поэты...
Елена Фоминична Лаврентьева
Тобою буду горд,
Тобою буду твёрд,
Матерь моя, Россия!
Сергей Наровчатов
Отцы – фронтовики – поэты!
В слезах любви смотрю вам вслед.
Вы встали в строй июньским летом,
Чтоб защитить России свет.
В судьбу страны ваш строй впечатан.
Ваш прах в дорогах фронтовых.
О мёртвых скажет Наровчатов:
Стоят стеною за живых.
Отцы – фронтовики – поэты!
Любви высокая волна.
Стихом, штыком и пистолетом
Владеть учила вас война.
Вы наша совесть, наше знамя.
В любую из лихих годин,
Покуда ваше слово с нами,
Мы крепость сердца не сдадим.
* * *
Владимир Скиф
СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ РОССИИ
При вступлении в должность председателя правления Иркутского отделения Союза писателей России я оформлял необходимые казенные документы. В Федеральной налоговой службе мне выдали бумагу, где было написано “Союз спасателей России”.
Меня читатели спросили:
— Вы кто в делах большой страны?
И я ответил, что в России
Мы оказались не нужны.
Среди опальных наших буден
Вдруг оказалось, что уже
Не нужен Бондарев, Распутин
И все, кто пишет о душе,
О горькой Родине, о поле,
Что потонуло в конопле,
О русской доле, русской школе,
Где пол-России — на “игле”.
Живется Родине сурово,
И в схватке Духа и свинца
Мы — русское живое Слово —
Несем в разбитые сердца.
Читатель верит в нашу силу,
Да и чиновники подчас.
“Союз спасателей России” —
По статусу назвали нас.
И как бы ни был хлеб наш труден,
Мы не намерены бросать
Своих читателей! Мы будем —
Белов, Зиновьев и Распутин,
Куняев, Струкова, Личутин
И все, кто пишет в зонах буден, —
Страну и нацию спасать!
* * *
Олег Дмитриев
ФОТОГРАФИИ НА ВКЛАДКЕ
День поэзии. 1975
Любуюсь я известными поэтами!
Они на снимках запечатлены
Ещё в шинели серые одетыми
В какой-нибудь из дней конца войны.
Они Пробились, победили, выжили!
В разрушенной и праздничной стране
Из первых уст сограждане услышали,
Как молодость держалась на войне.
Я вглядываюсь в лица их открытые,
В улыбки — просто детские порой.
Глядят на нас солдаты неубитые,
Они — таланты, в землю не зарытые…
А сколько их, таких –
В земле сырой?
Да, скольких поглотили ямы чёрные,
Коль стольких возвратил военный вихрь?!
Сейчас легко статистики-учёные
Дадут ответ.
Но мы не спросим их.
Зарытые таланты не поднимутся.
Несозданная песня не слышна.
Но те, кого на мирный берег вынесла
Победная, последняя волна,
В растерзанных рядах держа равнение,
Сказали, не скрывая ничего,
За всё своё святое поколение,
Где
Павших —
Большинство.
* * *
Лев Озеров
Двадцатые
Листва закипает, как наши двадцатые,
Когда Маяковский с Асеевым в дружестве
Писали стихи о любви и о мужестве,
Неугомонные и угловатые;
Когда Пастернак в бормотанье восторженном,
Стремительном, миротворяще-встревоженном,
Слагал свои строки и тут же выбрасывал,
Сквозь жизнь пробираясь движением брассовым;
Когда над Есениным рдяными красками
Пылали все зори рязанские истово,
И Хлебников числа свои перелистывал
И впроголодь пел, детворою обласканный.
Листва закипает, как годы начальные,
Уже отдаленные дымкой забвения,
И новые к жизни идут поколения,
Но листья кипят, будто годы те дальные,
Те годы начальные, годы двадцатые:
Мы нищие были, мы были богатые.
* * *
Ярослав Смеляков
Три витязя
Мы шли втроём с рогатиной на слово
и вместе слезли с тройки удалой –
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя бильярдной и пивной.
Был первый точно беркут на рассвете,
летящий за трепещущей лисой.
Второй был неожиданным,
а третий – угрюмый, бледнолицый и худой.
Я был тогда сутулым и угрюмым,
хоть мне в игре
пока ещё – везло,
уже тогда предчувствия и думы
избороздили юное чело.
А был вторым поэт Борис Корнилов, –
я и в стихах и в прозе написал,
что он тогда у общего кормила,
недвижно скособочившись, стоял.
А первым был поэт Васильев Пашка,
златоволосый хищник ножевой –
не маргариткой
вышита рубашка,
а крестиком – почти за упокой.
Мы вместе жили, словно бы артельно,
но вроде бы, пожалуй, что не так –
стихи писали розно и отдельно,
а гонорар несли в один кабак.
По младости или с похмелья –
сдуру,
блюдя всё время заповедный срок,
в российскую свою литературу
мы принесли достаточный оброк.
У входа в зал,
на выходе из зала,
метельной ночью, утренней весной,
над нами тень Багрицкого витала
и шелестел Есенин за спиной.
...Второй наш друг,
ещё не ставши старым,
морозной ночью арестован был
и на дощатых занарымских нарах
смежил глаза и в бозе опочил.
На ранней зорьке пулею туземной
расстрелян был казачества певец,
и покатился вдоль стены тюремной
его златой надтреснутый венец.
А я вернулся в зимнюю столицу
и стал теперь в президиумы вхож.
Такой же злой, такой же остролицый,
но спрятавший
для обороны – нож.
Вот так втроём мы отслужили слову
и искупили хоть бы часть греха –
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя российского стиха.
* * *
Николай Дмитриев
Памяти Алексея Решетова
Еду-еду я к поэту,
О поэте фильм снимать*,
К Лёше Решетову еду –
Это надо понимать!
Лёша Решетов хороший,
Сведенье из первых рук,
Он душой своей продрогшей
Согревает всех вокруг.
И чтоб зябнул он не очень,
Чтоб забыл на час грустить,
В цветень, липень или сочень
Надо Лёшу навестить.
Духом скорбен, телом тонок,
Что ж, хвалить его – вотще!
Он Акакия потомок
Церетели! И вообще...
Он кровей грузинских, царских,
Только это пустяки, –
Малахитовые цацки
Его нежные стихи!
Там от горестно прожитой
Жизни с солью и тоской
Из протравленных прожилок
Лёг рисунок. Да какой!
Видно, рядом, свет не застя,
От призвания сутул,
Ему сам Данила-мастер
Главное перешепнул.
Еду-еду я к поэту,
О поэте фильм снимать,
К Леше Решетову еду, –
Это надо понимать!
Загляделись в заоконье,
Оборвали спор пустой
Стихотворец, вор в законе
И священник молодой.
Отвлекла и глаз, и ухо
Небывалая досель
Помонгольская разруха,
Лик истерзанных земель.
Поезд мелет без умолку:
Всех, мол, вас перевезу
Через реку. Всех: и волка,
И капусту, и козу.
Поезд едет с разговором,
А платформу встретит – в крик!
Вор Прокудиным Егором
Показался мне на миг.
Еду-еду я к поэту,
О поэте фильм снимать,
К Леше Решетову еду, –
Это надо понимать!
И звенит, как окаянный,
Ошалелый, чумовой
Подстаканник оловянный.
Бубенец поддужный мой.
1990
* Автор стихотворения принимал
участие в съёмках фильма
об А. Решетове.
* * *
Борис Чичибабин
О, дай нам Бог внимательных бессонниц...
О, дай нам Бог внимательных бессонниц,
чтоб каждый мог, придя под грубый кров
как самозванец, вдруг с далеких звонниц
услышать гул святых колоколов.
Той мзды печаль укорна и старинна,
щемит полынь, прощает синева.
О брат мой Осип и сестра Марина,
спасибо вам за судьбы и слова.
О, трижды нет! Не дерзок я, не ловок,
чтоб звать в родню двух лир безродный звон.
У ваших ног, натруженных, в оковах,
я нищ и мал. Не брезгуйте ж родством.
Когда в душе, как благовест Господний,
звучат стихи с воскреснувших страниц,
освободясь из дымной преисподней,
она лежит простершаяся ниц
и, слушая, наслушаться не может,
из тьмы чужой пришедшая домой,
и жалкий век, что ею в муках прожит,
не страшен ей, блаженной и немой.
И думает беглянка ниоткуда:
«Спасибо всем, кто дал мне их прочесть.
Как хорошо, что есть на свете Чудо,
хоть никому, хоть изредка, но есть.
А где их прах, в какой ночи овражной?
И ей известно ль, ведает ли он,
какой рубеж, возвышенный и страшный,
в их разобщенных снах запечатлен?
Пусть не замучит совесть негодяя,
но чуткий слух откликнется на зов…»
Так думает душа моя, когда я
не сплю ночей над истиной стихов.
О, ей бы так, на ангельском морозе б
пронзить собой все зоны и слои.
Сестра моя Марина, брат мой Осип,
спасибо вам, сожженные мои!
Спасибо вам, о грешные, о божьи,
в святых венцах веселий и тревог!
Простите мне, что я намного позже
услышал вас, чем должен был и мог.
Таков наш век. Не слышим и не знаем.
Одно словечко в Вечность обронив,
не грежу я высоким вашим раем.
Косноязычен, робок и ленив,
всю жизнь молюсь без имени и жеста, —
и ты, сестра, за боль мою моли,
чтоб ей занять свое святое место
у ваших ног, нетленные мои.
* * *
Геннадий Иванов
СВИДЕТЕЛЬ
Я видел поэтическое дерево –
Я видел Соколова, Передреева,
И Кузнецова, Тряпкина, и Сухова…
Я видел их и слышал, и любил.
Казанцева, Жигулина, Горбовского,
И Решетова, но березниковского…
Рубцова я не видел, но поистине
Он рядом, ближе многих ближних был.
Да, это было дерево так дерево.
Душа при нём жила, любила, верила.
Застал я время дивное в поэзии,
Чему я рад и по чему грущу.
И альманахи были интересные,
И вечера поэзии чудесные.
И много значили тогда для многих строки
В Москве и в Питере, и во Владивостоке…
* * *
Владимир Ефимович Молчанов
М.Д. Львову
Поэты фронтового поколения,
Спасавшие страну от покорения,
Писавшие не строки мимолетные,
А огненные строчки пулеметные, -
Себя пред вашим голосом уверенным
Я чувствую солдатом необстрелянным,
А перед вашей нежностью и кротостью
Стою я с восхищением и робостью.
Поэты фронтового поколения,
Вы жили все по Божьему велению,
Вам пелось нелегко и песня – с горестью,
И стали на земле для нас вы совестью.
Привычна вам вполне судьба походная,
Изношена давно шинель пехотная,
Но не забыты – нет! – бои, сражения:
Гремят они в стихах, как продолжение.
Поэты фронтового поколения,
Я думаю о вас не без волнения,
О том, что на земле вы все не вечные,
Но людям и себе, и долгу верные.
О, если бы в строю одном сомкнулись вы –
Плечом к плечу легко вы прикоснулись бы,
Но строй разомкнут ваш – ждет обновления,
Осталось от полка – лишь отделение.
Поэты фронтового поколения,
Мы ваше молодое пополнение,
Не нюхавшее пороху военного,
Не знавшее потери сокровенного.
Мы зла и горя мало в жизни вынесли,
Но на крови погибших все мы выросли,
И держим мы всегда на вас равнение,
Поэты фронтового поколения.
* * *
Отцы – фронтовики – поэты...
Елена Фоминична Лаврентьева
Тобою буду горд,
Тобою буду твёрд,
Матерь моя, Россия!
Сергей Наровчатов
Отцы – фронтовики – поэты!
В слезах любви смотрю вам вслед.
Вы встали в строй июньским летом,
Чтоб защитить России свет.
В судьбу страны ваш строй впечатан.
Ваш прах в дорогах фронтовых.
О мёртвых скажет Наровчатов:
Стоят стеною за живых.
Отцы – фронтовики – поэты!
Любви высокая волна.
Стихом, штыком и пистолетом
Владеть учила вас война.
Вы наша совесть, наше знамя.
В любую из лихих годин,
Покуда ваше слово с нами,
Мы крепость сердца не сдадим.
* * *
Владимир Скиф
СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ РОССИИ
При вступлении в должность председателя правления Иркутского отделения Союза писателей России я оформлял необходимые казенные документы. В Федеральной налоговой службе мне выдали бумагу, где было написано “Союз спасателей России”.
Меня читатели спросили:
— Вы кто в делах большой страны?
И я ответил, что в России
Мы оказались не нужны.
Среди опальных наших буден
Вдруг оказалось, что уже
Не нужен Бондарев, Распутин
И все, кто пишет о душе,
О горькой Родине, о поле,
Что потонуло в конопле,
О русской доле, русской школе,
Где пол-России — на “игле”.
Живется Родине сурово,
И в схватке Духа и свинца
Мы — русское живое Слово —
Несем в разбитые сердца.
Читатель верит в нашу силу,
Да и чиновники подчас.
“Союз спасателей России” —
По статусу назвали нас.
И как бы ни был хлеб наш труден,
Мы не намерены бросать
Своих читателей! Мы будем —
Белов, Зиновьев и Распутин,
Куняев, Струкова, Личутин
И все, кто пишет в зонах буден, —
Страну и нацию спасать!
* * *
Олег Дмитриев
ФОТОГРАФИИ НА ВКЛАДКЕ
День поэзии. 1975
Любуюсь я известными поэтами!
Они на снимках запечатлены
Ещё в шинели серые одетыми
В какой-нибудь из дней конца войны.
Они Пробились, победили, выжили!
В разрушенной и праздничной стране
Из первых уст сограждане услышали,
Как молодость держалась на войне.
Я вглядываюсь в лица их открытые,
В улыбки — просто детские порой.
Глядят на нас солдаты неубитые,
Они — таланты, в землю не зарытые…
А сколько их, таких –
В земле сырой?
Да, скольких поглотили ямы чёрные,
Коль стольких возвратил военный вихрь?!
Сейчас легко статистики-учёные
Дадут ответ.
Но мы не спросим их.
Зарытые таланты не поднимутся.
Несозданная песня не слышна.
Но те, кого на мирный берег вынесла
Победная, последняя волна,
В растерзанных рядах держа равнение,
Сказали, не скрывая ничего,
За всё своё святое поколение,
Где
Павших —
Большинство.
* * *
Лев Озеров
Двадцатые
Листва закипает, как наши двадцатые,
Когда Маяковский с Асеевым в дружестве
Писали стихи о любви и о мужестве,
Неугомонные и угловатые;
Когда Пастернак в бормотанье восторженном,
Стремительном, миротворяще-встревоженном,
Слагал свои строки и тут же выбрасывал,
Сквозь жизнь пробираясь движением брассовым;
Когда над Есениным рдяными красками
Пылали все зори рязанские истово,
И Хлебников числа свои перелистывал
И впроголодь пел, детворою обласканный.
Листва закипает, как годы начальные,
Уже отдаленные дымкой забвения,
И новые к жизни идут поколения,
Но листья кипят, будто годы те дальные,
Те годы начальные, годы двадцатые:
Мы нищие были, мы были богатые.
* * *
Ярослав Смеляков
Три витязя
Мы шли втроём с рогатиной на слово
и вместе слезли с тройки удалой –
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя бильярдной и пивной.
Был первый точно беркут на рассвете,
летящий за трепещущей лисой.
Второй был неожиданным,
а третий – угрюмый, бледнолицый и худой.
Я был тогда сутулым и угрюмым,
хоть мне в игре
пока ещё – везло,
уже тогда предчувствия и думы
избороздили юное чело.
А был вторым поэт Борис Корнилов, –
я и в стихах и в прозе написал,
что он тогда у общего кормила,
недвижно скособочившись, стоял.
А первым был поэт Васильев Пашка,
златоволосый хищник ножевой –
не маргариткой
вышита рубашка,
а крестиком – почти за упокой.
Мы вместе жили, словно бы артельно,
но вроде бы, пожалуй, что не так –
стихи писали розно и отдельно,
а гонорар несли в один кабак.
По младости или с похмелья –
сдуру,
блюдя всё время заповедный срок,
в российскую свою литературу
мы принесли достаточный оброк.
У входа в зал,
на выходе из зала,
метельной ночью, утренней весной,
над нами тень Багрицкого витала
и шелестел Есенин за спиной.
...Второй наш друг,
ещё не ставши старым,
морозной ночью арестован был
и на дощатых занарымских нарах
смежил глаза и в бозе опочил.
На ранней зорьке пулею туземной
расстрелян был казачества певец,
и покатился вдоль стены тюремной
его златой надтреснутый венец.
А я вернулся в зимнюю столицу
и стал теперь в президиумы вхож.
Такой же злой, такой же остролицый,
но спрятавший
для обороны – нож.
Вот так втроём мы отслужили слову
и искупили хоть бы часть греха –
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя российского стиха.
* * *
Николай Дмитриев
Памяти Алексея Решетова
Еду-еду я к поэту,
О поэте фильм снимать*,
К Лёше Решетову еду –
Это надо понимать!
Лёша Решетов хороший,
Сведенье из первых рук,
Он душой своей продрогшей
Согревает всех вокруг.
И чтоб зябнул он не очень,
Чтоб забыл на час грустить,
В цветень, липень или сочень
Надо Лёшу навестить.
Духом скорбен, телом тонок,
Что ж, хвалить его – вотще!
Он Акакия потомок
Церетели! И вообще...
Он кровей грузинских, царских,
Только это пустяки, –
Малахитовые цацки
Его нежные стихи!
Там от горестно прожитой
Жизни с солью и тоской
Из протравленных прожилок
Лёг рисунок. Да какой!
Видно, рядом, свет не застя,
От призвания сутул,
Ему сам Данила-мастер
Главное перешепнул.
Еду-еду я к поэту,
О поэте фильм снимать,
К Леше Решетову еду, –
Это надо понимать!
Загляделись в заоконье,
Оборвали спор пустой
Стихотворец, вор в законе
И священник молодой.
Отвлекла и глаз, и ухо
Небывалая досель
Помонгольская разруха,
Лик истерзанных земель.
Поезд мелет без умолку:
Всех, мол, вас перевезу
Через реку. Всех: и волка,
И капусту, и козу.
Поезд едет с разговором,
А платформу встретит – в крик!
Вор Прокудиным Егором
Показался мне на миг.
Еду-еду я к поэту,
О поэте фильм снимать,
К Леше Решетову еду, –
Это надо понимать!
И звенит, как окаянный,
Ошалелый, чумовой
Подстаканник оловянный.
Бубенец поддужный мой.
1990
* Автор стихотворения принимал
участие в съёмках фильма
об А. Решетове.
* * *
Николай Дмитриев
Николай Дмитриев
Алексею Леонидовичу Решетову
Я сперва подумал: «Вот же брешут-то!
Вот на сплетни люди не глухи!»
А потом узнал: и вправду Решетов
Перестал писать стихи…
А ведь в них стучало сердце голое.
Он теперь не размыкает уст,
Обронил перо свое тяжелое
Под горючий, под ракитов куст.
И ему валяться, неподобрану,
Ведь его не в силах подобрать
Даже вся дружинушка хоробрая –
Вся упорно пишущая рать.
И глаза свои святые, бедные,
Так ему непросто поднимать,
Словно бы про нас такое ведомо,
Что еще нам рано это знать.
Я сперва подумал: «Вот же брешут-то!
Вот на сплетни люди не глухи!»
А потом узнал: и вправду Решетов
Перестал писать стихи…
А ведь в них стучало сердце голое.
Он теперь не размыкает уст,
Обронил перо свое тяжелое
Под горючий, под ракитов куст.
И ему валяться, неподобрану,
Ведь его не в силах подобрать
Даже вся дружинушка хоробрая –
Вся упорно пишущая рать.
И глаза свои святые, бедные,
Так ему непросто поднимать,
Словно бы про нас такое ведомо,
Что еще нам рано это знать.
* * *
Арсений Тарковский
ПОЭТ НАЧАЛА ВЕКА
Твой каждый стих — как чаша яда,
Как жизнь, спаленная грехом,
И я дышу, хоть и не надо,
Нельзя дышать твоим стихом.
Ты — бедный мальчик сумасшедший,
С каких-то белых похорон
На пиршество друзей приведший
Колоколов прощальный звон.
Прости меня, я как в тумане
Приникну к твоему плащу
И в черной затвердевшей ткани
Такую стужу отыщу,
Такой возврат невыносимый
Смертельной юности моей,
Что разрушенье Хиросимы
Твоих созвучий не страшней.
Тогда я простираю руки
И путь держу на твой магнит.
А на земле в последней муке
Внизу душа моя скорбит...
* * *
Твой каждый стих — как чаша яда,
Как жизнь, спаленная грехом,
И я дышу, хоть и не надо,
Нельзя дышать твоим стихом.
Ты — бедный мальчик сумасшедший,
С каких-то белых похорон
На пиршество друзей приведший
Колоколов прощальный звон.
Прости меня, я как в тумане
Приникну к твоему плащу
И в черной затвердевшей ткани
Такую стужу отыщу,
Такой возврат невыносимый
Смертельной юности моей,
Что разрушенье Хиросимы
Твоих созвучий не страшней.
Тогда я простираю руки
И путь держу на твой магнит.
А на земле в последней муке
Внизу душа моя скорбит...
* * *
Олег Акимович Чупров
СОЛОВЬИНАЯ ПЕСНЯ
Берёзки нежно светятся
от солнышка румяного,
И птицы заливаются
в рассветной тишине...
Поеду в город Вязники –
на родину Фатьянова!
Там каждая тропиночка
о нём расскажет мне.
И голова закружится
от воздуха духмяного,
От аромата пряного
владимирских полей...
И песню задушевную
что на стихи Фатьянова,
Вновь заведёт за речкою
весёлый соловей!
И пусть немало прожил я,
но здесь, как будто заново,
Судьбу начну завидную
с подружкой молодой...
Ах, славный город Вязники –
спасибо за Фатьянова!
Он душу поседевшую
омыл живой водой.
Меня обнимет милая,
хмельного, но не пьяного,
И поведёт желанного
в тот терем на краю...
И песню соловьиную,
что на стихи Фатьянова,
Споёт природа pyсскaя!
А я ей подпою...
* * *
Ярослав Смеляков
Берёзки нежно светятся
от солнышка румяного,
И птицы заливаются
в рассветной тишине...
Поеду в город Вязники –
на родину Фатьянова!
Там каждая тропиночка
о нём расскажет мне.
И голова закружится
от воздуха духмяного,
От аромата пряного
владимирских полей...
И песню задушевную
что на стихи Фатьянова,
Вновь заведёт за речкою
весёлый соловей!
И пусть немало прожил я,
но здесь, как будто заново,
Судьбу начну завидную
с подружкой молодой...
Ах, славный город Вязники –
спасибо за Фатьянова!
Он душу поседевшую
омыл живой водой.
Меня обнимет милая,
хмельного, но не пьяного,
И поведёт желанного
в тот терем на краю...
И песню соловьиную,
что на стихи Фатьянова,
Споёт природа pyсскaя!
А я ей подпою...
* * *
Ярослав Смеляков
Алексей Фатьянов
Мне во что бы то ни стало
надо встретиться с тобой,
русской песни запевала
и се мастеровой.
С обоюдным постоянством
мы б послали с кондачка
все романсы-преферансы
для частушки и очка.
Володимирской породы
достославный образец,
добрый молодец народа,
госэстрады молодец.
Ты никак не ради денег
не затем, чтоб лишний грош,
по Москве, как коробейник,
песни сельские несешь.
Песня тянет и туманит,
потому что между строк
там и ленточка и пряник,
тут и глиняный свисток.
Песню петь-то надо с толком,
потому что между строк
и немецкие осколки,
и блиндажный огонек.
Там и выдумка и были,
жизнь как есть — ни дать, ни взять.
Песни те, что не купили,
будем даром раздавать.
Краснощекий, белолицый,
приходи ко мне домой,
шумный враг ночных милиций,
брат милиции дневной.
Приходи ко мне сегодня
чуть, с устаточку, хмелен,
посмеемся я ж охотник,
и поплачем — ты ж силен.
Ну-ка вместе вспомним, братцы,
отрешась от важных дел,
как любил он похваляться,
как он каяться умел.
О тебе, о неушедшем,
не смогу себе простить! —
я во времени прошедшем
вздумал вдруг заговорить.
Видно, черт меня попутал,
ввел в дурацкую игру
Это вроде б не к добру-то,
впрочем, нынче все к добру
Ты меня, дружок хороший,
за обмолвку извини.
И сегодня же, Алеша,
или завтра позвони...
* * *
Арсений Тарковский
Слово о сержанте и песне
Памяти Алексея Фатьянова
Ещё догорали в затишье садов
Печальные курские хаты,
Усталые после трёхдневных боёв
Заснули под рокот шальных соловьёв
В садах возле пушек солдаты.
Опять соловьихам признаньем в любви
Извечная песня казалась,
И пели
на много колен соловьи,
Как петь мастерам полагалось.
Откинув житейские помыслы прочь,
Лежали бойцы как попало...
Не спал караул,
и не спал в эту ночь
Весёлый сержант-запевала.
Он сердце настроил на песенный лад,
Прилёг на потёртой шинели,
Просил соловьёв
не тревожить солдат...
И птицы вполголоса пели.
К словам подобрал он сердечный мотив
И спел на рассвете впервые...
И песню его подхватили в пути,
На марше друзья боевые.
Шла песня с бойцами не раз за огнём,
И с ней забывалась усталость.
Упал запевала в боях за Днестром,
А песня...
А песня остались.
Её и доныне в казармах поют,
Как пели на фронте бывало...
И кажется нынче солдатам в строю,
Что с ними стоит уцелевший в бою
Весёлый сержант-запевала.
* * *
Николай Старшинов
Памяти Алексея Фатьянова
Ещё догорали в затишье садов
Печальные курские хаты,
Усталые после трёхдневных боёв
Заснули под рокот шальных соловьёв
В садах возле пушек солдаты.
Опять соловьихам признаньем в любви
Извечная песня казалась,
И пели
на много колен соловьи,
Как петь мастерам полагалось.
Откинув житейские помыслы прочь,
Лежали бойцы как попало...
Не спал караул,
и не спал в эту ночь
Весёлый сержант-запевала.
Он сердце настроил на песенный лад,
Прилёг на потёртой шинели,
Просил соловьёв
не тревожить солдат...
И птицы вполголоса пели.
К словам подобрал он сердечный мотив
И спел на рассвете впервые...
И песню его подхватили в пути,
На марше друзья боевые.
Шла песня с бойцами не раз за огнём,
И с ней забывалась усталость.
Упал запевала в боях за Днестром,
А песня...
А песня остались.
Её и доныне в казармах поют,
Как пели на фронте бывало...
И кажется нынче солдатам в строю,
Что с ними стоит уцелевший в бою
Весёлый сержант-запевала.
* * *
Николай Старшинов
Памяти Алексея Фатьянова
Пусть былое ворвётся в беседы...
Хоть оно порастает быльём,
Каждый год накануне Победы
Мы солдатские песни поём.
Не случайно совсем, не впервые,
До поры отложивши дела,
Соберутся твои рядовые
У накрытого другом стола.
Снова песню военную грянув,
Словно новый возьмут перевал...
Тут и выйдет Алёша Фатьянов –
Запевала из всех запевал.
Не его ли в глухом чернолесье
Надрывались всю ночь соловьи?
Не его ли широкие песни
Были самые наши,
Свои?
Меж солдат уживались бывалых,
Пробирались по топям болот,
Согревали на кратких привалах,
Шли в рядах марширующих рот...
Ничего, что сегодня мы седы,
Мы упрямо стоим на своём:
Каждый год, накануне Победы,
Те
Прекрасные песни
Поём.
Пусть былое ворвётся в беседы...
Хоть оно порастает быльём,
Каждый год накануне Победы
Мы солдатские песни поём.
Не случайно совсем, не впервые,
До поры отложивши дела,
Соберутся твои рядовые
У накрытого другом стола.
Снова песню военную грянув,
Словно новый возьмут перевал...
Тут и выйдет Алёша Фатьянов –
Запевала из всех запевал.
Не его ли в глухом чернолесье
Надрывались всю ночь соловьи?
Не его ли широкие песни
Были самые наши,
Свои?
Меж солдат уживались бывалых,
Пробирались по топям болот,
Согревали на кратких привалах,
Шли в рядах марширующих рот...
Ничего, что сегодня мы седы,
Мы упрямо стоим на своём:
Каждый год, накануне Победы,
Те
Прекрасные песни
Поём.
* * *
Михаил Сипер
АЛЕКСАНДРУ ГОРОДНИЦКОМУ
Александр Моисеевич, будьте вы мне здоровы,
Занимайтесь, чем хочется, только болеть не след.
Ведь на вас есть обязанность – вы нам храните Слово.
Если вы не удержитесь, смотришь – и Слова нет.
Мир меняется быстро и рушатся ориентиры ,
Кто, куда и зачем – непонятно в большой кутерьме.
На квартирный вопрос не найти ни ответ, ни квартиры,
И на что нам квартира в делённой на клетки тюрьме?
Александр Моисеевич, вы и не ждёте, наверно,
Что затихнет пугающий нечеловеческий вой,
Что над грязным туманом взлетят паруса «Крузенштерна»,
Защищая пространство над вашею головой.
Трудно ждать чудес, ведь всё говорит об обратном,
Не скрипят тротуары – рассыпалась в крошки доска.
«Только будьте здоровы!» - твержу и твержу многократно:
«Только будьте здоровы...» И в часы добавляю песка.
Михаил Сипер
АЛЕКСАНДРУ ГОРОДНИЦКОМУ
Александр Моисеевич, будьте вы мне здоровы,
Занимайтесь, чем хочется, только болеть не след.
Ведь на вас есть обязанность – вы нам храните Слово.
Если вы не удержитесь, смотришь – и Слова нет.
Мир меняется быстро и рушатся ориентиры ,
Кто, куда и зачем – непонятно в большой кутерьме.
На квартирный вопрос не найти ни ответ, ни квартиры,
И на что нам квартира в делённой на клетки тюрьме?
Александр Моисеевич, вы и не ждёте, наверно,
Что затихнет пугающий нечеловеческий вой,
Что над грязным туманом взлетят паруса «Крузенштерна»,
Защищая пространство над вашею головой.
Трудно ждать чудес, ведь всё говорит об обратном,
Не скрипят тротуары – рассыпалась в крошки доска.
«Только будьте здоровы!» - твержу и твержу многократно:
«Только будьте здоровы...» И в часы добавляю песка.
* * *
Борис Межиборский
МАЙЯ ЛУГОВСКАЯ
По бабьи ссорюсь, по мужски мирюсь,
По волчьи вою, блею по козлячьи
То скакуном гарцую на виду,
То протащусь последней старой клячей.
По- стариковски ничего не жду,
По-детски верю в счастье и удачу,
ТО кажется- весь мир переверну,
То думаю, что ничего не значу.
То ото всех упрячусь и уйду,
То перед всеми суетно маячу,
То хохочу, узнавши про беду,
И без причины безутешно плачу.
Как радость удивлять глупцов,
На собственную глупость удивляться
Самой расставить сети для ловцов,
Самой попасться в сеть и там остаться.
* * *
Павел Антокольский
НИКОЛАЮ БРАУНУ
Мой младший брат, мой славный Коля!
Куда откуда ни взгляни,
В одной мы обучались школе,
В одном же классе в оны дни —
В годах двадцатых и тридцатых,
Точней сказать — в сороковых,
Не закавычены в цитатах,
Росли в событьях мировых.
Так юность превращалась в зрелость,
И у костров солдатских грелась,
И слепла в гибельном огне,
Но мчится время, время мчится…
Вскормила римская волчица
Двух близнецов на той войне.
Но плечи нам иное бремя
Отяготило навсегда —
Не дремлет жизнь, торопит время
Четырехстопный ямб труда.
Но сколько было расставаний,
И сколько дружественных встреч
Вместились в два существованья —
Всё надо в памяти сберечь!
Друг другу изредка сигналя,
Встречались мы по старине
На Грибоедовском канале,
На Петроградской стороне,
И в Киеве, и на Ирпене,
И, наконец, в Москве у нас…
Хватило только бы терпенья,
Над рукописями склонясь,
Разворошить за датой дату,
Прочесть все «где-то» и «когда-то»,
Пройти весь этот сложный ход,
Все главы нашего романа,
В которых под руку, туманно
Шли Дон-Жуан и Дон-Кихот…
Но кто был кто? Какой же метод
Поможет нам найти ответ?
Пусть разберет литературовед
И скажет: оба — тот и этот.
Потом пороется в стихах,
Разложит нас по разным полкам,
Прислушается к кривотолкам
И кончит розыск впопыхах.
А мы дадим друг другу руки —
И дальше в путь, и дальше в жизнь.
Она полна утрат и муки,
Но за штурвал ее — держись!
* * *
Петр Вегин
ЮННЕ МОРИЦ
Это чёрная работа -
красоте учить кого-то.
Что отсталые народы,
что морального урода.
Боги были.
Сотворили
человека. Но забыли -
красоте недоучили.
И на радостях запили.
(А потом их упразднили.)
Почему-то, отчего-то
этой чёрною работой
заниматься неохота
ни царям, ни слесарям.
Но ведь кто-то в мире должен
это делать.
Эй, художник!
Эй, Поэт! - сию заботу
передали боги вам.
Незакончен и неточен,
жаждет мир, чтоб ты помог.
Ты - его чернорабочий,
но - чернорабочий бог!
Нет божественней занятья,
чем уроки красоты!
Отрицание распятья -
наши строчки и холсты.
Извините - не до ландышей.
Всего радостнее нам
человечество, разламывающее
хлеб искусства пополам.
Хлебом тем и озабочено,
ходит племя чудаков,
горбясь, как чернорабочие,
вдохновеннее богов.
Борис Межиборский
МАЙЯ ЛУГОВСКАЯ
По бабьи ссорюсь, по мужски мирюсь,
По волчьи вою, блею по козлячьи
То скакуном гарцую на виду,
То протащусь последней старой клячей.
По- стариковски ничего не жду,
По-детски верю в счастье и удачу,
ТО кажется- весь мир переверну,
То думаю, что ничего не значу.
То ото всех упрячусь и уйду,
То перед всеми суетно маячу,
То хохочу, узнавши про беду,
И без причины безутешно плачу.
Как радость удивлять глупцов,
На собственную глупость удивляться
Самой расставить сети для ловцов,
Самой попасться в сеть и там остаться.
* * *
Павел Антокольский
НИКОЛАЮ БРАУНУ
Мой младший брат, мой славный Коля!
Куда откуда ни взгляни,
В одной мы обучались школе,
В одном же классе в оны дни —
В годах двадцатых и тридцатых,
Точней сказать — в сороковых,
Не закавычены в цитатах,
Росли в событьях мировых.
Так юность превращалась в зрелость,
И у костров солдатских грелась,
И слепла в гибельном огне,
Но мчится время, время мчится…
Вскормила римская волчица
Двух близнецов на той войне.
Но плечи нам иное бремя
Отяготило навсегда —
Не дремлет жизнь, торопит время
Четырехстопный ямб труда.
Но сколько было расставаний,
И сколько дружественных встреч
Вместились в два существованья —
Всё надо в памяти сберечь!
Друг другу изредка сигналя,
Встречались мы по старине
На Грибоедовском канале,
На Петроградской стороне,
И в Киеве, и на Ирпене,
И, наконец, в Москве у нас…
Хватило только бы терпенья,
Над рукописями склонясь,
Разворошить за датой дату,
Прочесть все «где-то» и «когда-то»,
Пройти весь этот сложный ход,
Все главы нашего романа,
В которых под руку, туманно
Шли Дон-Жуан и Дон-Кихот…
Но кто был кто? Какой же метод
Поможет нам найти ответ?
Пусть разберет литературовед
И скажет: оба — тот и этот.
Потом пороется в стихах,
Разложит нас по разным полкам,
Прислушается к кривотолкам
И кончит розыск впопыхах.
А мы дадим друг другу руки —
И дальше в путь, и дальше в жизнь.
Она полна утрат и муки,
Но за штурвал ее — держись!
* * *
Петр Вегин
ЮННЕ МОРИЦ
Это чёрная работа -
красоте учить кого-то.
Что отсталые народы,
что морального урода.
Боги были.
Сотворили
человека. Но забыли -
красоте недоучили.
И на радостях запили.
(А потом их упразднили.)
Почему-то, отчего-то
этой чёрною работой
заниматься неохота
ни царям, ни слесарям.
Но ведь кто-то в мире должен
это делать.
Эй, художник!
Эй, Поэт! - сию заботу
передали боги вам.
Незакончен и неточен,
жаждет мир, чтоб ты помог.
Ты - его чернорабочий,
но - чернорабочий бог!
Нет божественней занятья,
чем уроки красоты!
Отрицание распятья -
наши строчки и холсты.
Извините - не до ландышей.
Всего радостнее нам
человечество, разламывающее
хлеб искусства пополам.
Хлебом тем и озабочено,
ходит племя чудаков,
горбясь, как чернорабочие,
вдохновеннее богов.
* * *
Илья Фоняков
НИКОЛАЙ УШАКОВ
День прожит как-то бестолково.
И Николая Ушакова
Вдруг с полки хочется достать
И, не спеша, перелистать.
Прозрачные стихотворенья —
Любовь старинная моя,
Легчайшие прикосновенья
К шершавой шкуре бытия.
Они как музыка. И даже
Там, где газетной теме дань,
Высвечивается все та же
Облагороженная ткань.
Светильник сдвинулся немножко —
И вся картина смещена.
“Ах, эта муза-хромоножка,
Ну и затейница она!”
Как будто в небе меж ветвями,
Сквозит меж строчек синева.
И промежутки меж словами
Важней, чем собственно слова.
* * *
Илья Фоняков
ВАДИМ ШЕФНЕР
Он никого уже не узнавал.
Зрачок не реагировал на свет,
В последнюю дорогу уплывал
Потомок шведов, питерский поэт.
Что ж, прожито немало. И роптать,
По божескому счету, нет причин.
И строчки Блока стал над ним читать
Вдруг, по наитью, как молитву, сын.
И вздрогнул, и поверить мог едва:
Сквозь толщу глухоты и немоты
Отец за ним подхватывал слова —
Уже оттуда, из-за той черты!
И показалось на короткий миг,
Что, может быть, и вправду смерти нет.
Так уходил создатель многих книг,
Потомок шведов, питерский поэт.
* * *
Илья Фоняков
Илья Фоняков
НИКОЛАЙ УШАКОВ
День прожит как-то бестолково.
И Николая Ушакова
Вдруг с полки хочется достать
И, не спеша, перелистать.
Прозрачные стихотворенья —
Любовь старинная моя,
Легчайшие прикосновенья
К шершавой шкуре бытия.
Они как музыка. И даже
Там, где газетной теме дань,
Высвечивается все та же
Облагороженная ткань.
Светильник сдвинулся немножко —
И вся картина смещена.
“Ах, эта муза-хромоножка,
Ну и затейница она!”
Как будто в небе меж ветвями,
Сквозит меж строчек синева.
И промежутки меж словами
Важней, чем собственно слова.
* * *
Илья Фоняков
ВАДИМ ШЕФНЕР
Он никого уже не узнавал.
Зрачок не реагировал на свет,
В последнюю дорогу уплывал
Потомок шведов, питерский поэт.
Что ж, прожито немало. И роптать,
По божескому счету, нет причин.
И строчки Блока стал над ним читать
Вдруг, по наитью, как молитву, сын.
И вздрогнул, и поверить мог едва:
Сквозь толщу глухоты и немоты
Отец за ним подхватывал слова —
Уже оттуда, из-за той черты!
И показалось на короткий миг,
Что, может быть, и вправду смерти нет.
Так уходил создатель многих книг,
Потомок шведов, питерский поэт.
* * *
Илья Фоняков
СЕРГЕЙ МАРКОВ
Упрямый, щуплый старичок
(Я помню старика!)
Зажал в некрепкий кулачок
Пространства и века.
Когда он письма присылал,
Из марок всякий раз
Выстраивался сериал:
Арал... Кара-Бугаз...
Аляской русской бредил он:
“Богатая страна!
Я и сейчас не примирен,
Что продана она.
Наш царь продешевил, друзья!
Опасный прецедент!
Но той земли пусть буду я
Негласный президент!”
И хвать по карте кулачком!
И мы потрясены:
“Пусть спит спокойно Белый дом,
Я не хочу войны.
Притом — ни войска, ни коня,
Чтобы принять парад.
И все же выпьем за меня:
Вы мой электорат.
Кто └за“ прошу поднять бокал,
Кто └против“ — так сиди!”
И некий чертик возникал
У каждого в груди.
Мы шли в гостиницу Москвой
Сквозь тусклый зимний свет
И толковали меж собой:
— Ну что сказать? Поэт!
* * *
В актовом зале литинститута...
Андрей Дементьев
В актовом зале литинститута
Мы сдаем экзамены на самих себя.
Винокуров Женя, как юный Будда,
В кресле притих, листки теребя.
Здесь вся будущая литература —
Трифонов, Друнина, Соколов…
Смотрят классики то светло, то хмуро
На тех, кто их потеснить готов.
Мы получим с годами свои литпремии
За книги, за искренность и войну.
И останемся в том героическом времени,
Которое нам поставят в вину.
* * *
Андрей Дементьев
Упрямый, щуплый старичок
(Я помню старика!)
Зажал в некрепкий кулачок
Пространства и века.
Когда он письма присылал,
Из марок всякий раз
Выстраивался сериал:
Арал... Кара-Бугаз...
Аляской русской бредил он:
“Богатая страна!
Я и сейчас не примирен,
Что продана она.
Наш царь продешевил, друзья!
Опасный прецедент!
Но той земли пусть буду я
Негласный президент!”
И хвать по карте кулачком!
И мы потрясены:
“Пусть спит спокойно Белый дом,
Я не хочу войны.
Притом — ни войска, ни коня,
Чтобы принять парад.
И все же выпьем за меня:
Вы мой электорат.
Кто └за“ прошу поднять бокал,
Кто └против“ — так сиди!”
И некий чертик возникал
У каждого в груди.
Мы шли в гостиницу Москвой
Сквозь тусклый зимний свет
И толковали меж собой:
— Ну что сказать? Поэт!
* * *
В актовом зале литинститута...
Андрей Дементьев
От студенческих общежитий до бессмертья – рукой подать.
М. Светлов
В актовом зале литинститута
Мы сдаем экзамены на самих себя.
Винокуров Женя, как юный Будда,
В кресле притих, листки теребя.
Здесь вся будущая литература —
Трифонов, Друнина, Соколов…
Смотрят классики то светло, то хмуро
На тех, кто их потеснить готов.
Мы получим с годами свои литпремии
За книги, за искренность и войну.
И останемся в том героическом времени,
Которое нам поставят в вину.
* * *
Андрей Дементьев
Век Серебряный заглох…
Век Серебряный заглох…
Возвратился каменный,
Где уже неведом Блок,
Не прочитан Анненский.
Из души не рвется зов.
И пустуют залы.
У властителей умов
Появились замы:
Непотребная попса
В тыщах вольт и мраке…
Бьются в ритме голоса,
Как крутые – в драке.
А уж как распалены
Короли улова…
Не хватает тишины,
Чтоб услышать Слово.
* * *
Евгений Евтушенко
Век Серебряный заглох…
Возвратился каменный,
Где уже неведом Блок,
Не прочитан Анненский.
Из души не рвется зов.
И пустуют залы.
У властителей умов
Появились замы:
Непотребная попса
В тыщах вольт и мраке…
Бьются в ритме голоса,
Как крутые – в драке.
А уж как распалены
Короли улова…
Не хватает тишины,
Чтоб услышать Слово.
* * *
Евгений Евтушенко
Фронтовики Оттепели
Гудзенко и Луконин,
И под землей мне верьте.
Я – фронтовик в законе
И даже после смерти.
Я в детстве не был жалок.
Не ждал подмоги свыше,
Тушитель зажигалок
На нашей школьной крыше.
Вы, Михаил Кульчицкий,
Когда на нас шли наци,
Вложили мне в ключицы
Способность не ломаться.
Как гордо Костя Левин,
Хирургами изрезан,
Ничем не поколеблен,
Поскрипывал протезом.
И даже Поженяна,
который всех забавней,
эпоха пожевала,
да был не по зубам он ей!
Без всяких подсказулек
Нас в бой звала атака,
И мы не подскользнулись
На деле Пастернака.
Повадкой партизана весь,
Я рвался к тайнам в мире,
И мы железный занавес
Стихами проломили.
Ты не боялась, Белла
и не хваталась за голову,
и ты не оробела
прорваться в Горький к Сахарову.
Мы Родины не отдали,
став, хоть и много выпили,
фронтовиками Оттепели,
да заморозки выпали.
* * *
Ярослав Смеляков
Гудзенко и Луконин,
И под землей мне верьте.
Я – фронтовик в законе
И даже после смерти.
Я в детстве не был жалок.
Не ждал подмоги свыше,
Тушитель зажигалок
На нашей школьной крыше.
Вы, Михаил Кульчицкий,
Когда на нас шли наци,
Вложили мне в ключицы
Способность не ломаться.
Как гордо Костя Левин,
Хирургами изрезан,
Ничем не поколеблен,
Поскрипывал протезом.
И даже Поженяна,
который всех забавней,
эпоха пожевала,
да был не по зубам он ей!
Без всяких подсказулек
Нас в бой звала атака,
И мы не подскользнулись
На деле Пастернака.
Повадкой партизана весь,
Я рвался к тайнам в мире,
И мы железный занавес
Стихами проломили.
Ты не боялась, Белла
и не хваталась за голову,
и ты не оробела
прорваться в Горький к Сахарову.
Мы Родины не отдали,
став, хоть и много выпили,
фронтовиками Оттепели,
да заморозки выпали.
* * *
Ярослав Смеляков
ПИСЬМО К ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ
Михаилу Луконину
Меж неземной и средь житейской
толпы поэтов небольшой
мы — плебс. И вкус у нас плебейский,
а не какой-нибудь иной.
Но плебс совсем другого рода,
а не такого, не того,
что, тщась шагать в главе народа,
плетётся сам в хвосте его.
Для песенок с пошибом старым
не брали мы со стороны
ни семиструнную гитару,
ни балалайку в три струны.
И в небольшом фабричном зале
средь чтения своих страниц
чечёткой, сдуру, не прельщали
ряды смеющихся девиц.
…Мы с теми даже вроде дружим,
но сами вовсе не из тех,
кому — до боли сердца — нужен
любой, но всё-таки успех.
Мы не из тех, кто молодёжи
строчит намёки да интим.
Мы сами это делать можем,
да не желаем. Не хотим.
Мы не хотим, чтоб нам вдогонку —
оценка та совсем не впрок:
«Ах, как он мил! Какой он тонкий!»
звучал прелестный голосок.
Но это только отрицанье.
А вдруг достойные умы
нас спросят: «Ну а что вы сами?»
Действительно — что сами? Мы?
Вдыхая жадно воздух здешний,
с тобою вместе мы вдвоём
без фейерверка, непоспешно,
хоть время к вечеру, идём.
Мы отвергаем за работой —
«не только я, не только ты —
красивости или красоты
для справедливой красоты.
Мы добываем, торжествуя
и глядя времени в лицо,
не «мо», не хохму продувную,
а просто красное словцо.
Да, то словцо и то словечко,
произнесённое в упор,
что как истопленная печка
или в зазубринах топор.
* * *
Где же вы подруги-поэтессы...
Людмила Васильевна Щипахина
Где же вы подруги-поэтессы?
Что же вы, родные, замолчали?
Феи духа, королевы прессы,
Звёздочки восторга и печали.
Горестно дышать в продажном мире,
Быть его частицею – постыдно.
Потому – не слышно вас в эфире
И по телевизору не видно.
Никому не нужные таланты...
Ветер перестройки дует в уши.
Расстреляли, словно оккупанты,
Ваши очарованные души.
А вокруг беснуется, зверея,
Время нестерпимого разврата.
Солнечные ямбы и хореи
Отлетели временно куда-то...
Но Олимп пресветлый стоит мессы!
Да вернётся трептная лира!
Милые подруги-поэтессы,
Достоянье Родины. И мира...
Михаилу Луконину
Меж неземной и средь житейской
толпы поэтов небольшой
мы — плебс. И вкус у нас плебейский,
а не какой-нибудь иной.
Но плебс совсем другого рода,
а не такого, не того,
что, тщась шагать в главе народа,
плетётся сам в хвосте его.
Для песенок с пошибом старым
не брали мы со стороны
ни семиструнную гитару,
ни балалайку в три струны.
И в небольшом фабричном зале
средь чтения своих страниц
чечёткой, сдуру, не прельщали
ряды смеющихся девиц.
…Мы с теми даже вроде дружим,
но сами вовсе не из тех,
кому — до боли сердца — нужен
любой, но всё-таки успех.
Мы не из тех, кто молодёжи
строчит намёки да интим.
Мы сами это делать можем,
да не желаем. Не хотим.
Мы не хотим, чтоб нам вдогонку —
оценка та совсем не впрок:
«Ах, как он мил! Какой он тонкий!»
звучал прелестный голосок.
Но это только отрицанье.
А вдруг достойные умы
нас спросят: «Ну а что вы сами?»
Действительно — что сами? Мы?
Вдыхая жадно воздух здешний,
с тобою вместе мы вдвоём
без фейерверка, непоспешно,
хоть время к вечеру, идём.
Мы отвергаем за работой —
«не только я, не только ты —
красивости или красоты
для справедливой красоты.
Мы добываем, торжествуя
и глядя времени в лицо,
не «мо», не хохму продувную,
а просто красное словцо.
Да, то словцо и то словечко,
произнесённое в упор,
что как истопленная печка
или в зазубринах топор.
* * *
Где же вы подруги-поэтессы...
Людмила Васильевна Щипахина
Где же вы подруги-поэтессы?
Что же вы, родные, замолчали?
Феи духа, королевы прессы,
Звёздочки восторга и печали.
Горестно дышать в продажном мире,
Быть его частицею – постыдно.
Потому – не слышно вас в эфире
И по телевизору не видно.
Никому не нужные таланты...
Ветер перестройки дует в уши.
Расстреляли, словно оккупанты,
Ваши очарованные души.
А вокруг беснуется, зверея,
Время нестерпимого разврата.
Солнечные ямбы и хореи
Отлетели временно куда-то...
Но Олимп пресветлый стоит мессы!
Да вернётся трептная лира!
Милые подруги-поэтессы,
Достоянье Родины. И мира...
* * *
Давид Самойлов
Итог
Что значит наше поколенье?
Война нас споловинила.
Повергло время на колени.
Из нас Победу выбило.
А все ж дружили и служили,
И жить мечтали наново.
И все мечтали. А дожили
До Стасика Куняева.
Не знали мы, что чернь сильнее
И возрастет стократ еще.
И тихо мы лежим, синея,
На филиале Кладбища.
Когда устанут от худого
И возжелают лучшего,
Взойдет созвездие Глазкова,
Кульчицкого и Слуцкого.
* * *
Игорь Северянин
Инбер
Влюбилась как-то Роза в Соловья:
Не в птицу роза – девушка в портного,
И вот в давно обычном что-то ново,
Какая-то остринка в нем своя…
Мы в некотором роде кумовья:
Крестили вместе мальчика льняного –
Его зовут Капризом. В нем родного –
Для вас достаточно, сказал бы я.
В писательнице четко сочетались
Легчайший юмор, вдумчивый анализ,
Кокетливость, печаль и острый ум.
И грация вплелась в талант игриво.
Вот женщина, в которой сердце живо
И опьяняет вкрадчиво, как «мумм».
* * *
Борис Слуцкий
О Л. Н. МАРТЫНОВЕ
Мартынов знает,
какая погода
Сегодня
в любом уголке земли:
Там, где дождя не дождутся по году,
Там, где моря на моря стекли.
Идёт Мартынов мрачнее тучи.
— ?
— Над всем Поволжьем опять —
ни тучи.
Или: — В Мехико-сити мороз.
Опять бродяга в парке замёрз.
Подумаешь, что бродяга Гекубе?
Небо над нами — всё голубей.
Рядом с нами бодро воркует
Россыпь общественных голубей.
Мартынов выщурит синие, честные,
Сверхреальные свои глаза
И шепчет немногие ему известные
Мексиканские словеса.
Тонко, но крепко, как ниткой суровой,
Он связан с этой зимой суровой,
С тучей, что на Поволжье плывёт,
Со всем, что на этой земле живёт.
* * *
Борис Слуцкий
ПОЭТЫ 'ПРАВДЫ' И 'ЗВЕЗДЫ'
Поэты "Правды" и "Звезды",
Подпольной музы адъютанты!
На пьедесталы возвести
Хочу забытые таланты.
Целы хранимые в пыли,
В седом архивном прахе крылья.
Вы первые произнесли,
Не повторили, а открыли
Слова: НАРОД, СВОБОДА, НОВЬ,
А также КРОВЬ
И в том же роде.
Слова те били в глаз и в бровь
И были вправду о народе.
И новь не старою была,
А новой новью и - победной.
И кровь действительно текла
От рифмы тощей
К рифме бедной.
Короче не было пути
От слова к делу у поэта,
Чем тот,
Где вам пришлось пройти
И умереть в борьбе за это!
* * *
Татьяна Кузовлева
НЕ НАДО ЗАЖИГАТЬ ОГНЯ
Тамаре Жирмунской
I.
.В пальто распахнутом по улице
Идёшь, подхваченная маем,
И лишь у горловины пуговица
Раскрылья лёгкие сжимает.
Короткой оттепели крестники,
Мы жили строчками крылатыми,
Влюблённые, почти ровесники,
Сплочённые шестидесятыми.
Там вновь - весенняя распутица,
Вокруг то солнечно, то сумрачно,
Там ты опять идёшь по улице,
Слегка помахивая сумочкой, -
Несёшь средь говора московского
Лица рисунок романтический,
Как с полотна Боровиковского
Сошедшая в наш век космический.
II.
Что значит наше поколенье?
Война нас споловинила.
Повергло время на колени.
Из нас Победу выбило.
А все ж дружили и служили,
И жить мечтали наново.
И все мечтали. А дожили
До Стасика Куняева.
Не знали мы, что чернь сильнее
И возрастет стократ еще.
И тихо мы лежим, синея,
На филиале Кладбища.
Когда устанут от худого
И возжелают лучшего,
Взойдет созвездие Глазкова,
Кульчицкого и Слуцкого.
* * *
Игорь Северянин
Инбер
Влюбилась как-то Роза в Соловья:
Не в птицу роза – девушка в портного,
И вот в давно обычном что-то ново,
Какая-то остринка в нем своя…
Мы в некотором роде кумовья:
Крестили вместе мальчика льняного –
Его зовут Капризом. В нем родного –
Для вас достаточно, сказал бы я.
В писательнице четко сочетались
Легчайший юмор, вдумчивый анализ,
Кокетливость, печаль и острый ум.
И грация вплелась в талант игриво.
Вот женщина, в которой сердце живо
И опьяняет вкрадчиво, как «мумм».
* * *
Борис Слуцкий
О Л. Н. МАРТЫНОВЕ
Мартынов знает,
какая погода
Сегодня
в любом уголке земли:
Там, где дождя не дождутся по году,
Там, где моря на моря стекли.
Идёт Мартынов мрачнее тучи.
— ?
— Над всем Поволжьем опять —
ни тучи.
Или: — В Мехико-сити мороз.
Опять бродяга в парке замёрз.
Подумаешь, что бродяга Гекубе?
Небо над нами — всё голубей.
Рядом с нами бодро воркует
Россыпь общественных голубей.
Мартынов выщурит синие, честные,
Сверхреальные свои глаза
И шепчет немногие ему известные
Мексиканские словеса.
Тонко, но крепко, как ниткой суровой,
Он связан с этой зимой суровой,
С тучей, что на Поволжье плывёт,
Со всем, что на этой земле живёт.
* * *
Борис Слуцкий
ПОЭТЫ 'ПРАВДЫ' И 'ЗВЕЗДЫ'
Поэты "Правды" и "Звезды",
Подпольной музы адъютанты!
На пьедесталы возвести
Хочу забытые таланты.
Целы хранимые в пыли,
В седом архивном прахе крылья.
Вы первые произнесли,
Не повторили, а открыли
Слова: НАРОД, СВОБОДА, НОВЬ,
А также КРОВЬ
И в том же роде.
Слова те били в глаз и в бровь
И были вправду о народе.
И новь не старою была,
А новой новью и - победной.
И кровь действительно текла
От рифмы тощей
К рифме бедной.
Короче не было пути
От слова к делу у поэта,
Чем тот,
Где вам пришлось пройти
И умереть в борьбе за это!
* * *
Татьяна Кузовлева
НЕ НАДО ЗАЖИГАТЬ ОГНЯ
Тамаре Жирмунской
I.
.В пальто распахнутом по улице
Идёшь, подхваченная маем,
И лишь у горловины пуговица
Раскрылья лёгкие сжимает.
Короткой оттепели крестники,
Мы жили строчками крылатыми,
Влюблённые, почти ровесники,
Сплочённые шестидесятыми.
Там вновь - весенняя распутица,
Вокруг то солнечно, то сумрачно,
Там ты опять идёшь по улице,
Слегка помахивая сумочкой, -
Несёшь средь говора московского
Лица рисунок романтический,
Как с полотна Боровиковского
Сошедшая в наш век космический.
II.
Скупей улыбки, встречи реже,
Но всё же в сокровенный час
В кругу ровесников мы те же,
И те же голоса у нас.
Мы пьём неспешными глотками
За то, что снова мы не врозь,
За лучшее, что было с нами,
За тайное, что не сбылось.
И блещут тосты, строки, взгляды,
И смех взрывается, звеня.
Лишь зажигать огня не надо.
Не надо зажигать огня.
* * *
Ярослав Смеляков
КСЕНЯ НЕКРАСОВА
Но всё же в сокровенный час
В кругу ровесников мы те же,
И те же голоса у нас.
Мы пьём неспешными глотками
За то, что снова мы не врозь,
За лучшее, что было с нами,
За тайное, что не сбылось.
И блещут тосты, строки, взгляды,
И смех взрывается, звеня.
Лишь зажигать огня не надо.
Не надо зажигать огня.
* * *
Ярослав Смеляков
КСЕНЯ НЕКРАСОВА
Что мне, красавицы, ваши роскошные тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и белье?—
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной шляпке
в стихотворение медленно входит мое.
Как она бедно и как неискусно одета!
Пахнет от кройки подвалом или чердаком.
Вы не забыли стремление Ксенино это —
платье украсить матерчатым мятым цветком?
Жизнь ее, в общем, сложилась не очень удачно:
пренебреженье, насмешечки, даже хула.
Знаю я только, что где-то на станции дачной,
вечно без денег, она всухомятку жила.
На электричке в столицу она приезжала
с пачечкой новых, наивных до прелести строк.
Редко когда в озабоченных наших журналах
вдруг появлялся какой-нибудь Ксенин стишок.
Ставила буквы большие она неумело
на четвертушках бумаги, в блаженной тоске.
Так третьеклассница, между уроками, мелом
в детском наитии пишет на школьной доске.
Малой толпою, приличной по сути и с виду,
сопровождался по улицам зимним твой прах.
Не позабуду гражданскую ту панихиду,
что в крематории мы провели второпях.
И разошлись, поразъехались сразу, до срока,
кто — на собранье, кто — к детям, кто — попросту пить,
лишь бы скорее избавиться нам от упрека,
лишь бы быстрее свою виноватость забыть.
ваша изысканность, ваши духи и белье?—
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной шляпке
в стихотворение медленно входит мое.
Как она бедно и как неискусно одета!
Пахнет от кройки подвалом или чердаком.
Вы не забыли стремление Ксенино это —
платье украсить матерчатым мятым цветком?
Жизнь ее, в общем, сложилась не очень удачно:
пренебреженье, насмешечки, даже хула.
Знаю я только, что где-то на станции дачной,
вечно без денег, она всухомятку жила.
На электричке в столицу она приезжала
с пачечкой новых, наивных до прелести строк.
Редко когда в озабоченных наших журналах
вдруг появлялся какой-нибудь Ксенин стишок.
Ставила буквы большие она неумело
на четвертушках бумаги, в блаженной тоске.
Так третьеклассница, между уроками, мелом
в детском наитии пишет на школьной доске.
Малой толпою, приличной по сути и с виду,
сопровождался по улицам зимним твой прах.
Не позабуду гражданскую ту панихиду,
что в крематории мы провели второпях.
И разошлись, поразъехались сразу, до срока,
кто — на собранье, кто — к детям, кто — попросту пить,
лишь бы скорее избавиться нам от упрека,
лишь бы быстрее свою виноватость забыть.
* * *
Александр Городницкий
Поэты двадцатых
Снова вы ночами
Приходите в гости,
Ваших дней суровых
Оборвана нить,
Мальчики с тачанок,
Парни -- вырви-гвозди,
Что всегда готовы
Умереть и убить.
Шум деревьев мокрых.
На исходе лето.
На пейзаж унылый
Дождик моросит,
И Багрицкий смотрит
С тёмного портрета,
И Борис Корнилов
Глазом косит.
На Земле, на мачехе,
Спелых листьев гроздья.
Разбросав, не нужно
Камни собирать.
Аховые мальчики,
Парни -- вырви-гвозди,
Где же ваша дружная,
Преданная рать?
Той порой неласковой
Мне бы вместе с вами,
Не дрожа от ужаса,
С ясным лицом,
Любоваться наскоро
Засыпанными рва
Укреплять содружест
Сталью и свинцом.
Молниею сабля,
Чёрной тучей -- ворон,
Есть такое мнение,
Что бомба -- стих.
Сами вы писали
Себе приговоры,
Сами в исполнение
Приводили их.
А протока всякая
Зарастает тиной.
Славили вы бодро
Ваше житие.
Так, цепями звякая,
Перед гильотиной,
Воспевал победу
Андрей Шенье.
Вплетена в кумач её
Траурная лента.
Дышит тёплой влагой
Южный ветерок.
Воспоём же, мальчики,
Светлый нож Конвента,
Белую бумагу,
Красный террор!
* * *
Александр Городницкий
Поэты военного поколения
Поэты военного поколения,
Которых ставили на колени,
Сознавали это в какой-то мере,
Поэтому предпочитали верить
Тому, во имя чего их ставили,
Например -- за Родину и за Сталина.
Они снисхождения не просили,
На рубежах обречённых стоя.
Себя почитали частью России,
Её заражаясь неправотою.
И радовались, стихи свои склеив
Из приказов расстрельного материала.
Россия же не любила евреев,
И им свой голос не доверяла.
Она доверяла тогда грузину
В полуопущенных эполетах,
С которым перезимовала зиму,
С которым перебедовала лето.
Среди грязноватых московских сугробов,
В кителях полувоенных суконных,
Они стояли у этого гроба,
Они молились на эту икону,
Вдыхая жадно морозный воздух
Отчизны неправедной и увечной.
И тусклые пятиконечные звезды
Над ними мерцали, как семисвечник.
* * *
Александр Городницкий
Памяти Евгения Клячкина
Сигаретой опиши колечко.
Снова расставаться нам пора.
Ты теперь в земле остался вечной,
Где стоит июльская жара.
О тебе поплачет хмурый Питер
И родной израильский народ.
Только эти песни на иврите
Кто-нибудь навряд ли запоёт.
Со ступеней набережной старой
На воду пускаю я цветы.
Слышу я знакомую гитару.
Может, это вовсе и не ты,
Может, и не ты совсем, а некто
Улетел за тридевять земель,
Дом на переулке Антоненко
Поменяв на город Ариэль.
Сигаретой опиши колечко,
Пусть дымок растает голубой.
Всё равно на станции конечной
Скоро мы увидимся с тобой.
Пусть тебе приснится ночью синей,
Возвратив душе твоей покой,
Дождик василеостровских линий
Над холодной цинковой рекой.
* * *
Пусть им жилось тоскливо и натужно...
Виталий Пуханов
Пусть им жилось тоскливо и натужно,
они погибли весело и дружно —
друзья мои, весенних дней венозных
несносные поэты девяностых.
Их в новый век не взяли никого,
их позабыли всех до одного.
А в чём была их роковая участь,
я не пойму и мучусь, мучусь, мучусь.
Я вижу их — мерещатся порой.
У века за чертой, как за горой,
они сидят. Накрытые поляны,
разложены листы, поэты пьяны,
и кто-то спит, а кто-то говорит,
и голова под утро не болит!
Язык бежит, рука не затекает,
в ней чаша тяжела не усыхает.
Никто не потревожит их полёт,
ну разве только Пушкин забредёт
и Лермонтова тихо почитает.
* * *
Иосиф Бродский
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС
Евгению Рейну, с любовью
Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.
Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.
Плывет во мгле замоскворецкой
пловец в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.
Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.
Твой Новый год по темно-синей
волне средь шума городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
28 декабря 1961
* * *
АРОН КОПШТЕЙН
ПОЭТЫ
Я не любил до армии гармони,
Ее пивной простуженный регистр,
Как будто давят грубые ладони
Махорочные блестки желтых искр.
Теперь мы перемалываем душу,
Мечтаем о театре и кино,
Поем в строю вполголоса «Катюшу»
(На фронте громко петь воспрещено).
Да, каждый стал расчетливым и горьким:
Встречаемся мы редко, второпях,
И спорим о портянках и махорке,
Как прежде о лирических стихах.
Но дружбы, может быть, другой не надо,
Чем эта, возникавшая в пургу,
Когда усталый Николай Отрада
Читал мне Пастернака на бегу.
Дорога шла в навалах диабава,
И в маскхалатах мы сливались с ней,
И путано-восторженные фразы
Восторженней звучали и ясней!
Дорога шла почти как поединок,
И в схватке белых сумерек и тьмы
Мы проходили тысячи тропинок,
Но мирозданья не топтали мы.
Что ранее мы видели в природе?
Степное счастье оренбургских нив,
Днепровское похмелье плодородья
И волжский нелукавящий разлив.
Не ливнем, не метелью, не пожаром
(Такой ее мы увидали тут) —
Она была для нас Тверским бульваром,
Зеленою дорогой в институт.
Но в январе сорокового года
Пошли мы, добровольцы, на войну,
В суровую финляндскую природу,
В чужую, незнакомую страну.
Нет, и сейчас я не люблю гармони
Визгливую, надорванную грусть.
Я тем горжусь, что в лыжном эскадропе
Я Пушкина читаю наизусть,
Что я изведал напряженье страсти,
И если я, быть может, до сих пор
Любил стихи, как дети любят сласти, —
Люблю их, как водитель свой мотор.
Он барахлит, с ним не находишь сладу,
Измучаешься, выбьешься из сил,
Он три часа не слушается кряду —
И вдруг забормотал, заговорил,
И ровное его сердцебиенье,
Уверенный, неторопливый шум,
Напомнит мне мое стихотворенье,
Которое еще я напишу.
И если я домой вернуся целым,
Когда переживу двадцатый бой,
Я хорошенько высплюсь первым делом,
Потом опять пойду на фронт любой.
Я стану злым, расчетливым и зорким,
Как на посту (по-штатски — «на часах»),
И, как о хлебе, соли и махорке,
Мы снова будем спорить о стихах.
Бьют батареи. Вспыхнули зарницы.
А над землянкой медленный дымок.
«И вечный бой.
Покой нам только снится...»
Так Блок сказал.
Так я сказать бы мог.
1940
* * *
Поженян Григорий Михайлович
Поэты
Оттого и поэтому
веки были красны…
Становились поэтами,
возвратившись с войны.
Чтоб словами нелживыми
день держать в чистоте.
Чтоб, пока ещё живы мы,
живы были и те.
Чтобы не с оговорками,
а, черна добела,
та война была горькою,
раз уж горькой была.
И чужой от отчаяния,
и своей до конца.
Чтоб роднили случайные
девять граммов свинца.
Чтоб последней разлукою,
для тебя, для меня
был последнею мукою
свет победного дня.
Оттого и поэтому
были веки красны…
Становились поэтами,
возвратившись с войны.
В орденах, без копеечки,
начиная с нуля,
шли мы в скошенной кепочке,
по Тверскому пыля.
И не ждали признания,
посыпая, как соль,
на горбушку призвания
неостывшую боль.
* * *
Виктор Широков
МЕМОРИЯ О ЛЕОНИДЕ МАРТЫНОВЕ
Кто не якшался, кто не чванствовал, приближен к царскому двору; с Рембо курил, с Верленом пьянствовал, с Вийоном дрался поутру… Всяк нынче бредит мемуарами, припоминая без прикрас, а все же лентою муаровой нет-нет да выглядит рассказ. Воспоминанья о Мартынове составили изрядный том, а чем так речи, эти рты новы, узнаете ли вы о том? Запомнились всем совпадения мистические неких цифр… А взлеты духа, а падения — кому доступен сложный шифр? Я тоже с ним встречался изредка (по службе), но о том молчу, ведь вызывать сегодня призрака я не могу и не хочу. Я сохранил его автографы (немногочисленные, но литературные топографы их оценили б все равно); я помню разговоры жаркие и вороха его бумаг, но все мои потуги жалкие не выразят, какой он маг. Что ж, творчество — не созерцание, порой не только дань уму… И все-таки живет мерцание, что я наследовал ему не только пресловутой книжностью и стихопрозой козырной, но — жаждой знания, подвижностью и чертовщинкой озорной. А, впрочем, бросим эти "яканья", здесь важно то, что индивид — любой из нас… Был слова лакомкой поэт Мартынов Леонид. И пусть бурлят воспоминания о нем с закваской колдовской, они всегда напоминание о свойствах памяти людской. Отбрасывается бесполезное, сгорает как в огне костра… Его стихи, его поэзия всегда, как лезвие, остра.
* * *
Семен Липкин
КВАДРИГА*
Среди шутов, среди шутих,
Разбойных, даровитых, пресных,
Нас было четверо иных,
Нас было четверо безвестных.
Один, слагатель дивных строк,
На точной рифме был помешан.
Он как ребенок был жесток,
Он как ребенок был безгрешен.
Он, искалеченный войной,
Вернулся в дом сырой, трухлявый,
Расстался с прелестью-женой,
В другой обрел он разум здравый,
И только вместе с сединой
Его коснулся ангел славы.
Второй, художник и поэт,
В стихах и в красках был южанин,
Но понимал он тень и свет,
Как самородок-палешанин.
Был долго в лагерях второй.
Вернулся — весел, шумен, ярок.
Жизнь для него была игрой
И рукописью без помарок.
Был не по правилам красив,
Чужой сочувствовал удаче,
И умер, славы не вкусив,
Отдав искусству жизнь без сдачи,
И только дружеский архив
Хранит накал его горячий.
А третья нам была сестрой.
Дочь пошехонского священства,
Объединяя страсть и строй,
Она искала совершенства.
Муж-юноша погиб в тюрьме.
Дитя свое сама растила.
За робостью в ее уме
Упрямая таилась сила.
Как будто на похоронах,
Шла по дороге безымянной,
И в то же время был размах,
Воспетый Осипом и Анной.
На кладбище Немецком — прах,
Душа — в юдоли богоданной.
А мне, четвертому, — ломать
Девятый суждено десяток,
Осталось близких вспоминать,
Благословляя дней остаток.
Мой путь, извилист и тяжел,
То сонно двигался, то грозно.
Я счастлив, что тебя нашел,
Мне горько, что нашел я поздно.
Случается, что снится мне
Двор детских лет, грехопаденье,
Иль окруженье на войне,
Иль матери нравоученье,
А ты явилась — так во сне
Является стихотворенье.
* * Герои этого стихотворения — Арсений Тарковский, Аркадий Штейнберг и Мария Петровых
* * *
Без всякого мистического вздора...
Борис Чичибабин
Без всякого мистического вздора,
Обыкновенной кровью истекав,
По-моему, добро и здорово,
Что люди тянутся к стихам.
Кажись бы, дело безполезное,
Но в годы памятного зла
Поеживалась Поэзия, —
А всё-таки жила!
О, сколько пуль в поэтов пущено,
Но радость пела в мастерах,
И мстил за зло улыбкой Пушкина
Непостижимый Пастернак.
Двадцатый век болит и кается,
Он — голый, он — в ожогах весь.
Бездушию политиканства
Поэзия — противовес.
На колья лагерей натыканная,
На ложь и серость осерчав,
Поворачивает к Великому
Человеческие сердца…
Не для себя прошу внимания,
Мне не дойти до тех высот.
Но у меня такая мания,
Что мир Поэзия спасёт.
И вы не верьте в то, что плохо вам,
Перенимайте вольный дух
Хотя бы Пушкина и Блока,
Хоть этих двух.
У всех прошу, во всех поддерживаю
Доверье к царственным словам.
Любите Русскую Поэзию.
Зачтётся вам.
* * *
Н. Заболоцкий
Читая стихи
Любопытно, забавно, и тонко:
Стих, почти непохожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.
И в бессмыслице скомканной речи
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?
И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?
Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.
Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.
* * *
Е.Евтушенко
В строке, отливающей сталью...
В строке, отливающей сталью,
холодная скрыта игра.
Я выше поэзии ставлю
сражение зла и добра.
Поэзия - как неживая,
когда равнодушным пером
добро она злом называет,
а зло называет добром.
Бесчувствие - это увечье.
Строке доверяю, когда
лицо у неё человечье:
из радости, гнева, стыда.
В строке хороша недомолвка,
но не трусоватый намёк,
а кровью строка не намокла
престиж у поэта подмок.
Я видел эпох столкновенье,
руками разламывал зло,
и это - моё становленье,
а прочее - всё ремесло.
Какая забота мне, право,
что чей-нибудь слух услаждён.
Добро победит - я оправдан,
а зло победит - осуждён.
Но есть и такое мошенство
при литературном дворе,
похожее на двоежёнство:
жениться на зле и добре.
Не вырастет гений из хлюста.
Ещё никогда не была
победа большого искусства
хоть малой победой зла.
* * *
Борис Кушнер
СОНЕТ
Петрарка, Дант, Буонаротти,
Туманной Англии Поэт -
В любого века развороте
Державно царствовал Сонет.
Строкой и сжатой, и просторной
Сонет нам сердце захватил.
Он затмевал высокой формой
Само сияние светил.
Бессонных Муз благоволенье -
Ликуй и плачь, пылай, дрожи
Сквозь беспредельное волненье,
Сквозь озарения души.
Пришла эпоха Интернета,
И ей нет дела до Сонета.
* * *
Георгий Долматов
Евгению Рейну
Жизнь поэта не проста, поверьте,
Если он страстями опален
На себе попробуйте, проверьте
Жизнь любя, как он в нее влюблен.
Звезды он снимал с небес вечерних
Словно яблоки в своем саду,
Проносил стихи свои сквозь тернии,
Зажигая новую звезду.
Он дружил, курил и спорил с Бродским,
Был на равных и не с ним одним,
Но не предал русские березки
Горькими наветами гоним.
Он о счастье большем, знаю ,бредил,
Чем ему судьбой предрешено,
В его сердце тысячи трагедий
Влито в искрометное вино.
Жизнь его на зависть, без сомнений,
Жизнь поэта, кого слышал бог
В отблеске пленительных мгновений
И в пыли от пройденных дорог.
* * *
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ
ПАМЯТИ М. ЛУКОНИНА
Здесь рифмуются пожарища
Ничему не вопреки…
Старшие мои товарищи —
Все фронтовики.
Им доверить можно исповедь,
К ним войти, как равный, в дом.
Я любуюсь ими исподволь
В этом времени и в том.
Не пустили в пламень дунувший.
Есть такие времена —
Что и отроков, и юношей
Возраст мучит, как вина.
Где оно, мое бесстрашие
Перед пулей и штыком?
Время, кажется, вчерашнее,
Но сегодня в горле ком.
Здесь рифмуются пожарища
Ничему не вопреки.
Лучшие мои товарищи —
Все фронтовики.
Но ни в деле, ни на празднестве,
Где бы с ними ни шагнул,
Вопиющей этой разницы
Ни один не подчеркнул.
Не смешаю были с небылью —
У другого был огня.
Просто знаю: если б не было
Их,
То не было меня.
* * *
Аля Воронкова
Под гитару
«Как бьют часы! Со счета можно сбиться.
По полке бродят блики, неясны».
Ю. Левитанский
Как бьют часы! Со счёта можно сбиться. (с)
За шторой ночь и новый чистый снег.
Слепой ночник высвечивает лица
Друзей моих, которых больше нет.
Их имена и редкое звучанье
Открытых душ …забвенью не отдам!
Мы сами ставим точки окончаний
Дорогам, отношениям, годам.
Рука опять потянется к гитаре.
Припоминая сложный перебор,
Ведёт душа
Свой бесконечно-старый
С ушедшими друзьями разговор…
А со стены Витёк, Олежек, Ромка
В заснеженную смотрят вышину.
…И бьют часы каминные негромко,
Боясь нарушить в доме тишину.
Кого назад не отпустили горы,
Кого-то забрала с собой болезнь…
А я живу за них,
Один,
Упорно
Под наш девиз – «Срываешься, но лезь!»
Листаю жизни лучшие страницы,
И в сердце возвращается покой.
…Слепой ночник высвечивает лица
Друзей моих под неустанный бой.
А вдалеке, где негде и укрыться
От снега и метелей,
Горы спят.
…Как бьют часы! Со счёта можно сбиться. (с)
Поведай, время,
Где твой путь назад?
* * *
Белла Ахмадулина
НОЧЬ УПАДАНЬЯ ЯБЛОК
Семёну Липкину
Уж август в половине. По откосам
по вечерам гуляют полушалки.
Пришла пора высокородным осам
навязываться кухням в приживалки.
Как женщины глядят в судьбу варенья:
лениво-зорко, неусыпно-слепо —
гляжу в окно, где обитает время
под видом истекающего лета.
Лишь этот образ осам для пирушки
пожаловал – кто не варил повидла.
Здесь закипает варево покруче:
живьём съедает и глядит невинно.
Со мной такого лета не бывало.
– Да и не будет! – слышу уверенье.
И вздрагиваю: яблоко упало,
на «НЕ» – извне поставив ударенье.
Жить припустилось вспугнутое сердце,
жаль бедного: так бьётся кропотливо.
Неужто впрямь небытия соседство,
словно соседка глупая, болтливо?
Нет, это – август, упаданье яблок.
Я просто не узнала то, что слышу.
В сердцах, что собеседник непонятлив,
неоспоримо грохнуло о крышу.
Быть по сему. Чем кратче, тем дороже.
Так я сижу в ночь упаданья яблок.
Грызя и попирая плодородье,
жизнь милая идёт домой с гулянок.
* * *
Давид Самойлов
Пятеро
Жили пятеро поэтов
В предвоенную весну,
Неизвестных, незапетых,
Сочинявших про войну.
То, что в песне было словом,
Стало верною судьбой.
Первый сгинул под Ростовом,
А второй - в степи сырой.
Но потворствует удачам
Слово - солнечный кристалл.
Третий стал, чем быть назначен,
А четвертый - тем, чем стал.
Слово - заговор проклятый!
Все-то нам накликал стих…
И живет на свете пятый,
Вспоминая четверых.
* * *
Геннадий ИВАНОВ
СВИДЕТЕЛЬ
Я видел поэтическое дерево –
Я видел Соколова, Передреева,
И Кузнецова, Тряпкина, и Сухова…
Я видел их и слышал, и любил.
Казанцева, Жигулина, Горбовского,
И Решетова, но березниковского…
Рубцова я не видел, но поистине
Он рядом, ближе многих ближних был.
Да, это было дерево так дерево.
Душа при нём жила, любила, верила.
Застал я время дивное в поэзии,
Чему я рад и по чему грущу.
И альманахи были интересные,
И вечера поэзии чудесные.
И много значили тогда для многих строки
В Москве и в Питере, и во Владивостоке…
* * *
Леонид Хаустов
«КОЛОКОЛЬЧИК»
Помню госпиталь: просто палатки.
По-над Ладогой снова метёт.
Костя Лебедев, родом из Вятки,
Высоко забирая, поёт.
Кто стонал — тот заслушался молча,
Кто молчал — тот вздохнул: «Во даёт!
«Однозвучно гремит колокольчик»,—
Под гитару нам Костя поёт.
Чем до Питера, ближе до бога.
Дали нам костыли и — пока,
Поправляйся, боец!.. А дорога
Предо мной далека, далека…
* * *
Юлия Друнина
ПОЭТ
Вернулся из войны. Не так уж молод —
Остался за спиною перевал…
Вернулся из войны. Блокадный холод
Его больное сердце не сковал.
Не рвался на высокие трибуны
И не мечтал блистать за рубежом.
Нет, не завидовал модерным, юным
Он — скромной гордостью вооружен.
Страдал. Писал. Не требуя награды.
За строчкой строчку. Трудно. Не спеша.
В тени… В нем билось сердце Ленинграда,
В нем трепетала Питера душа.
Он помнил — Пушкин, Достоевский, Ленин
Дышали белым маревом Невы…
Седой поэт, застенчивости пленник,
Идет, не поднимая головы.
В президиум, в последний ряд, садится,
Прищурив близорукие глаза.
И освещаются невольно лица,
И благодарно замирает зал,
Когда поэт выходит на трибуну,
Когда берет, робея, микрофон,
И далеко запрятанные струны
Невольно в душах задевает он.
Мы снова верим, что в наш век жестокий,
Который всяким сантиментам чужд,
Еще становятся бинтами строки
Для раненых, для обожженных душ.
* * *
Юлия Друнина
НА ЭСТРАДЕ
Аудитория требует юмора,
Аудитория, в общем, права:
Ну, для чего на эстраде угрюмые,
Словно солдаты на марше, слова?
И кувыркается бойкое слово,
Рифмами, как бубенцами, звеня.
Славлю искусство Олега Попова,
Но понимаю все снова и снова:
Это занятие не для меня…
Требуют лирики. Лирика… С нею
Тоже встречаться доводиться мне.
Но говорить о любви я умею
Только наедине.
Наедине, мой читатель, с тобою,
Под еле слышимый шелест страниц
Просто делиться и счастьем, и болью,
Сердцебиеньем, дрожаньем ресниц…
Аудитория жаждет сенсаций,
А я их, признаться, боюсь, как огня.
Ни громких романов, ни громких оваций
Не было у меня.
Но если меня бы расспрашивал Некто
Чем я, как поэт, в своей жизни горда? —
Ответила б: «Тем лишь, что ради эффекта
Ни строчки не сделала никогда».
* * *
Борис Слуцкий
Заученный, зачитанный...
Заученный, зачитанный,
залистанный до дыр,
Сельвинский мой учитель,
но Пушкин — командир.
Сельвинский мой учитель,
но более у чисел,
у фактов, у былья
тогда учился я.
* * *
Сельвинский — брошенная зона…
Борис Слуцкий
Сельвинский — брошенная зона
геологической разведки,
мильон квадратных километров
надежд, оставленных давно.
А был не полтора сезона,
три полноценных пятилетки,
вождь из вождей
и мэтр из мэтров.
Он нем! Как тех же лет кино.
Кино немое! Эту пленку
до Марса можно растянуть,
да только некому и некогда
и ни к чему ее тянуть.
Кино немое! Онемевшее
давным-давно,
когда к экранам звуковое
шумливо ринулось кино.
Сельвинский — брошенная зона…
Борис Слуцкий
Сельвинский — брошенная зона
геологической разведки,
мильон квадратных километров
надежд, оставленных давно.
А был не полтора сезона,
три полноценных пятилетки,
вождь из вождей
и мэтр из мэтров.
Он нем! Как тех же лет кино.
Кино немое! Эту пленку
до Марса можно растянуть,
да только некому и некогда
и ни к чему ее тянуть.
Кино немое! Онемевшее
давным-давно,
когда к экранам звуковое
шумливо ринулось кино.
Я лекции за ним записывал.
Он выставлял отметки мне.
От мнения его зависело,
обедал я или же не.
Но ситуация — иная:
уроки сам теперь даю,
Сельвинского не вспоминаю
и каждый день обедаю.
Да, демон отлетался. Маршал
отвоевался. Стих муссон.
Увидит и рукою машет,
сердечно радуется он.
А я душевно и сердечно
рад, что он рад. Рад, что он бодр.
Рад, что безбедно и беспечно
он сыт, одет, обут и горд.
Пять строк в истории всемирной,
листок — в истории родной
поэзии. Лукав, как мирный
чеченец. (Правильней: «мирно́й».)
Раздумчив, напряжен, обидчив,
в политике довольно сбивчив,
в поэтике отлично тверд,
одет, обут, и сыт, и горд.
Учитель! К счастью ль, к сожаленью,
учился — я, он — поучал.
А я не отличался ленью.
Он многое в меня вкачал.
Он до сих пор неровно дышит
к тому, что я в стихах толку.
Недаром мне на книгах пишет:
любимому ученику.
Он выставлял отметки мне.
От мнения его зависело,
обедал я или же не.
Но ситуация — иная:
уроки сам теперь даю,
Сельвинского не вспоминаю
и каждый день обедаю.
Да, демон отлетался. Маршал
отвоевался. Стих муссон.
Увидит и рукою машет,
сердечно радуется он.
А я душевно и сердечно
рад, что он рад. Рад, что он бодр.
Рад, что безбедно и беспечно
он сыт, одет, обут и горд.
Пять строк в истории всемирной,
листок — в истории родной
поэзии. Лукав, как мирный
чеченец. (Правильней: «мирно́й».)
Раздумчив, напряжен, обидчив,
в политике довольно сбивчив,
в поэтике отлично тверд,
одет, обут, и сыт, и горд.
Учитель! К счастью ль, к сожаленью,
учился — я, он — поучал.
А я не отличался ленью.
Он многое в меня вкачал.
Он до сих пор неровно дышит
к тому, что я в стихах толку.
Недаром мне на книгах пишет:
любимому ученику.
По воле или по неволе
мы эту дань отдать должны.
Мы не вольны в семье и в школе,
в учителях мы не вольны.
Учение: в нем есть порука
взаимная, как на войне.
Мы отвечаем друг за друга.
Его колотят — больно мне.
* * *
Борис Слуцкий
Было много жалости и горечи…
Было много жалости и горечи.
Это не поднимет, не разбудит.
Скучно будет без Ильи Григорьича.
Тихо будет.
Необычно расшумелись похороны:
давка, драка.
Это все прошло, а прахам поровну
выдается тишины и мрака.
Как народ, рвалась интеллигенция.
Старики, как молодые,
выстояли очередь на Герцена.
Мимо гроба тихо проходили.
Эту свалку, эти дебри
выиграл, конечно, он вчистую.
Усмехнулся, если поглядел бы
ту толпу горючую, густую.
Эти искаженные отчаяньем
старые и молодые лица,
что пришли к еврейскому печальнику,
справедливцу и нетерпеливцу,
что пришли к писателю прошений
за униженных и оскорбленных.
Так он, лежа в саванах, в пеленах,
выиграл последнее сражение.
* * *
Евгений Рейн
БОРИС И ЛЕОНИД
В пятьдесят шестом на бульваре Тверском
я у них в гостях побывал,
и огромный арбуз на столе стоял
сахарист, надтреснут и ал.
Я читал им запальчивые стихи,
возмечтав о судьбе Рембо,
и внимательно за ними следил
в створки сдвинутые трюмо.
И один недовольно в усы ворчал,
а другой веселел зрачком.
Так я понял, что я их пронять не смог,
что явился я с пустяком.
Я, пожалуй, был симпатичен им,
но ведь ждали они не меня,
каждый час мог явиться другой поэт,
представляющий времена.
Потому для меня самый смачный кусок
из арбуза вырезан был,
и усатый десятку в прихожей мне
дружелюбной рукой вручил.
мы эту дань отдать должны.
Мы не вольны в семье и в школе,
в учителях мы не вольны.
Учение: в нем есть порука
взаимная, как на войне.
Мы отвечаем друг за друга.
Его колотят — больно мне.
* * *
Борис Слуцкий
Было много жалости и горечи…
Было много жалости и горечи.
Это не поднимет, не разбудит.
Скучно будет без Ильи Григорьича.
Тихо будет.
Необычно расшумелись похороны:
давка, драка.
Это все прошло, а прахам поровну
выдается тишины и мрака.
Как народ, рвалась интеллигенция.
Старики, как молодые,
выстояли очередь на Герцена.
Мимо гроба тихо проходили.
Эту свалку, эти дебри
выиграл, конечно, он вчистую.
Усмехнулся, если поглядел бы
ту толпу горючую, густую.
Эти искаженные отчаяньем
старые и молодые лица,
что пришли к еврейскому печальнику,
справедливцу и нетерпеливцу,
что пришли к писателю прошений
за униженных и оскорбленных.
Так он, лежа в саванах, в пеленах,
выиграл последнее сражение.
* * *
Евгений Рейн
БОРИС И ЛЕОНИД
В пятьдесят шестом на бульваре Тверском
я у них в гостях побывал,
и огромный арбуз на столе стоял
сахарист, надтреснут и ал.
Я читал им запальчивые стихи,
возмечтав о судьбе Рембо,
и внимательно за ними следил
в створки сдвинутые трюмо.
И один недовольно в усы ворчал,
а другой веселел зрачком.
Так я понял, что я их пронять не смог,
что явился я с пустяком.
Я, пожалуй, был симпатичен им,
но ведь ждали они не меня,
каждый час мог явиться другой поэт,
представляющий времена.
Потому для меня самый смачный кусок
из арбуза вырезан был,
и усатый десятку в прихожей мне
дружелюбной рукой вручил.
Дверь неплотно захлопнулась, и когда
я шагнул на ступеньку вниз:
— Как ты думаешь, будет толк, Леонид?
— А из нас вышел толк, Борис?
Б. Слуцкий и Л. Мартынов.
* * *
Виктор Широков
ЮНОШЕСКИЕ СПОРЫ
Ах, эти пьянки на Таганке
и эти споры двух Россий,
где словно бледные поганки
бутылки винные росли.
Какие здесь сверкали строки!
Шел стихопад. Стиховорот.
И если речь текла о Блоке,
никто не доставал блокнот.
И как я встряхивал упрямо
свой чубчик, ежели порой
Твардовского и Мандельштама
стравить пытались меж собой.
(Поэты в том не виноваты,
что, на цитаты разодрав
стихи живые - на канаты
их шлют для утвержденья прав).
Не помню доводы лихие.
Однообразен был финал:
меня очередной вития,
не слушая, перебивал.
Опять бряцали именами,
друзей и недругов громя.
Мне кажется сейчас - с тенями
сражалась только тень моя.
Ее бесплодные усилья
достойны слова лишь затем,
что те же слабенькие крылья
у антиподов вечных тем.
И если я пытаюсь снова
тебя отстаивать, Мечта,
то это значит - живо слово,
каким освящены уста.
Затем порой и грязь месили,
учили наизусть тома,
чтоб осознать, что мы - Россия,
что жизнь - История сама.
* * *
Виктор Широков
ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ
Только через 32 года после смерти вышла по существу первая книга
стихотворений и поэм
"С любимыми не расставайтесь!"
Александра Кочеткова (1900 - 1953),
названная строчкой из прекрасного
стихотворения "Баллада о прокуренном вагоне".
Читаю Кочеткова,
Тяжелая судьба.
Но живо, живо слово
и рифма не слаба.
Не потускнел твой гений,
со временем не стих.
Сквозь толщу потрясений
к нам твой прорвался стих.
"Баллада о вагоне"
взлетит под потолок;
по всей стране в ладони
твой первый сборник лег.
Избегнув катастрофы,
вернулся ты домой
и эти чудо-строфы
поднял над головой.
При людях - мягкость, робость;
зато душа - стилет.
И вечно рядом пропасть,
Коль истинный поэт.
В клуб надевай манишку
и сам себе не лги;
пусть чешут кулачишки
бессонные враги.
У них одна забота:
стереть бы в порошок;
ведь бездари охота
сказать: "И ты не Блок..."
Но сгинут-сдохнут гады;
наступит Страшный суд;
и все твои баллады
читателя найдут.
На то и ищем слово,
стирая пот со лба...
Читаю Кочеткова.
Завидная судьба.
* * *
Александр Сергеевич Трофимов
М. Дудин. 100 лет. 20. 11. 16
На дно ли камнем,
Птицей ввысь ли, -
Закончив бой, бросаться в бой.
И оставаться в лучшем смысле
Сами собой,
Самим собой.
Михаил Дудин, 1963
На трассе на Фурманов из центра области
в Вяземском,
на горке у храма,
под серым камнем, под белым облаком
он упокоен, рядом с мамой;
выбрал обитель последнюю сам:
не в Ленинграде, не на Литераторском!*
В город, подальше от доли крестьянской
сына послали отец и мать,
в «Красный Манчестер».** Работал на ткацкой,
потом в институте учился писать.
В армию взяли. Сразу финская.
Медаль за отвагу. Выборг, Гангут.
И в Ленинграде в блокаду выстоял.
Воспоминания снятся и жгут:
ритмы стихам задавали пушки,
и метроном диктовал размер,
и далёко-далеко был Пушкин,
а по соседству бродила смерть.
В стылых землянках, в воронках полных
крови солдатской и горьких слёз
были спасеньем ему и опорой
стихи.
А рассвет ещё был белёс -
в разгаре война!
Помогли ли звёзды
иль ангел, сам разобраться не смог.
Сдюжить поэту на фронте не просто -
железо в клочья и камни в шок -
не потому ли, что нежность жалась
к небритой щеке солдатской, - не брось!
Война убивала любовь и жалость
и уничтожала удачи бронь.
А он стихи свои, звучно и верно
слово к слову,
как бисером вышивку,
складывал,
и из поэтов военных
трудно вымерять, кто его выше?
А у него
самого
известность,
наверно, не ниже тёзки из Вешенской.
Глава комиссии по литнаследию
Анны Ахматовой и Велимира Хлебникова,
герой соцтруда, решил, полезнее
праздник устроить
пушкинской поэзии, ***
чем быть медалей и званий пленником,
славить себя – это дело последнее!
Строки его переполненных чувством
и смыслом, недлинных стихов просты,
и щедро камень надгробный устлан
ворохом вызолоченной листвы.
* На кладбище «Литераторские мостки», в Санкт-Петербурге, похоронены: Тютчев, Блок, Куприн, Лозинский, Бергольц, Штоколов и др. выдающиеся литераторы и деятели искусства.
** К концу 20-х Иваново-Вознесенск, “Русский Манчестер” вновь ожил, только теперь его чаще называли “Красным”, подчёркивая революционные традиции. С 1933 г. переименован в Иваново.
*** Пушкинский день поэзии ежегодно отмечается по его инициативе.
* * *
Борис Чичибабин
ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ЭРЕНБУРГЕ
От нечестивых отмолчится,
а вопрошающих научит
Илья Григорьевич, мальчишка,
всему великому попутчик.
Ему, как пращуру, пращу бы —
и уши ветром просвистите.
Им век до веточки прощупан,
он — озорник и просветитель.
Чтоб не совела чайка-совесть,
к необычайному готовясь,
чтоб распознать ихтиозавра
в заре светающего завтра.
Седьмой десяток за плечами,
его и жгли и запрещали,
а он, седой, все так же молод —
и ничего ему не могут.
я шагнул на ступеньку вниз:
— Как ты думаешь, будет толк, Леонид?
— А из нас вышел толк, Борис?
Б. Слуцкий и Л. Мартынов.
* * *
Виктор Широков
ЮНОШЕСКИЕ СПОРЫ
Ах, эти пьянки на Таганке
и эти споры двух Россий,
где словно бледные поганки
бутылки винные росли.
Какие здесь сверкали строки!
Шел стихопад. Стиховорот.
И если речь текла о Блоке,
никто не доставал блокнот.
И как я встряхивал упрямо
свой чубчик, ежели порой
Твардовского и Мандельштама
стравить пытались меж собой.
(Поэты в том не виноваты,
что, на цитаты разодрав
стихи живые - на канаты
их шлют для утвержденья прав).
Не помню доводы лихие.
Однообразен был финал:
меня очередной вития,
не слушая, перебивал.
Опять бряцали именами,
друзей и недругов громя.
Мне кажется сейчас - с тенями
сражалась только тень моя.
Ее бесплодные усилья
достойны слова лишь затем,
что те же слабенькие крылья
у антиподов вечных тем.
И если я пытаюсь снова
тебя отстаивать, Мечта,
то это значит - живо слово,
каким освящены уста.
Затем порой и грязь месили,
учили наизусть тома,
чтоб осознать, что мы - Россия,
что жизнь - История сама.
* * *
Виктор Широков
ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ
Только через 32 года после смерти вышла по существу первая книга
стихотворений и поэм
"С любимыми не расставайтесь!"
Александра Кочеткова (1900 - 1953),
названная строчкой из прекрасного
стихотворения "Баллада о прокуренном вагоне".
Читаю Кочеткова,
Тяжелая судьба.
Но живо, живо слово
и рифма не слаба.
Не потускнел твой гений,
со временем не стих.
Сквозь толщу потрясений
к нам твой прорвался стих.
"Баллада о вагоне"
взлетит под потолок;
по всей стране в ладони
твой первый сборник лег.
Избегнув катастрофы,
вернулся ты домой
и эти чудо-строфы
поднял над головой.
При людях - мягкость, робость;
зато душа - стилет.
И вечно рядом пропасть,
Коль истинный поэт.
В клуб надевай манишку
и сам себе не лги;
пусть чешут кулачишки
бессонные враги.
У них одна забота:
стереть бы в порошок;
ведь бездари охота
сказать: "И ты не Блок..."
Но сгинут-сдохнут гады;
наступит Страшный суд;
и все твои баллады
читателя найдут.
На то и ищем слово,
стирая пот со лба...
Читаю Кочеткова.
Завидная судьба.
* * *
Александр Сергеевич Трофимов
М. Дудин. 100 лет. 20. 11. 16
На дно ли камнем,
Птицей ввысь ли, -
Закончив бой, бросаться в бой.
И оставаться в лучшем смысле
Сами собой,
Самим собой.
Михаил Дудин, 1963
На трассе на Фурманов из центра области
в Вяземском,
на горке у храма,
под серым камнем, под белым облаком
он упокоен, рядом с мамой;
выбрал обитель последнюю сам:
не в Ленинграде, не на Литераторском!*
В город, подальше от доли крестьянской
сына послали отец и мать,
в «Красный Манчестер».** Работал на ткацкой,
потом в институте учился писать.
В армию взяли. Сразу финская.
Медаль за отвагу. Выборг, Гангут.
И в Ленинграде в блокаду выстоял.
Воспоминания снятся и жгут:
ритмы стихам задавали пушки,
и метроном диктовал размер,
и далёко-далеко был Пушкин,
а по соседству бродила смерть.
В стылых землянках, в воронках полных
крови солдатской и горьких слёз
были спасеньем ему и опорой
стихи.
А рассвет ещё был белёс -
в разгаре война!
Помогли ли звёзды
иль ангел, сам разобраться не смог.
Сдюжить поэту на фронте не просто -
железо в клочья и камни в шок -
не потому ли, что нежность жалась
к небритой щеке солдатской, - не брось!
Война убивала любовь и жалость
и уничтожала удачи бронь.
А он стихи свои, звучно и верно
слово к слову,
как бисером вышивку,
складывал,
и из поэтов военных
трудно вымерять, кто его выше?
А у него
самого
известность,
наверно, не ниже тёзки из Вешенской.
Глава комиссии по литнаследию
Анны Ахматовой и Велимира Хлебникова,
герой соцтруда, решил, полезнее
праздник устроить
пушкинской поэзии, ***
чем быть медалей и званий пленником,
славить себя – это дело последнее!
Строки его переполненных чувством
и смыслом, недлинных стихов просты,
и щедро камень надгробный устлан
ворохом вызолоченной листвы.
* На кладбище «Литераторские мостки», в Санкт-Петербурге, похоронены: Тютчев, Блок, Куприн, Лозинский, Бергольц, Штоколов и др. выдающиеся литераторы и деятели искусства.
** К концу 20-х Иваново-Вознесенск, “Русский Манчестер” вновь ожил, только теперь его чаще называли “Красным”, подчёркивая революционные традиции. С 1933 г. переименован в Иваново.
*** Пушкинский день поэзии ежегодно отмечается по его инициативе.
* * *
Борис Чичибабин
ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ЭРЕНБУРГЕ
От нечестивых отмолчится,
а вопрошающих научит
Илья Григорьевич, мальчишка,
всему великому попутчик.
Ему, как пращуру, пращу бы —
и уши ветром просвистите.
Им век до веточки прощупан,
он — озорник и просветитель.
Чтоб не совела чайка-совесть,
к необычайному готовясь,
чтоб распознать ихтиозавра
в заре светающего завтра.
Седьмой десяток за плечами,
его и жгли и запрещали,
а он, седой, все так же молод —
и ничего ему не могут.
Ему сопутствуют, как видно,
едва лишь путь его начался,
любовь мазил и вундеркиндов
и подозрительность начальства.
Хоть век немало крови попил,
а у жасмина нежен стебель,
и струйки зыблются, и тепел
из трубки высыпанный пепел.
И мудрость хрупкая хранится,
еще не понятая всеми,
в тех разношерстных, чьи страницы
переворачивает время.
И чувство некое шестое
вбирает мира темный трепет.
Он знает более, чем стоит,
и проговариваться дрейфит.
Я все грехи его отрину
и не презрю их по-пустому
за то, что помнит он Марину
и верен свету золотому.
Таимой грустью воспаривши
в своем всезнанье одиноком,
легко ли помнить о Париже
у хмурого Кремля под боком?
Чего не вытерпит бумага!
Но клятвы юности исполнит
угомонившийся бродяга,
мечтатель, Соловей-разбойник.
Сперва поэт, потом прозаик,
неистов, мудр, великолепен,
он собирает и бросает,
с ним говорят Эйнштейн и Ленин.
Он помнит столько погребенных
и, озарен багряным полднем,
до барабанных перепонок
тревогой века переполнен.
Не знаю, верит ли он в Бога,
но я люблю такие лица —
они святы, как синагога.
Мы с ним смогли б договориться.
* * *
Игорь Северянин
Поэза о поэтессах
Как мало поэтесс! как много стихотворок!
О, где дни Жадовской! где дни Ростопчиной?
Дни Мирры Лохвицкой, чей образ сердцу дорог,
Стих гармонический и веющий весной?
О, сколько пламени, о, сколько вдохновенья
В их светлых творчествах вы жадно обрели!
Какие дивные вы ведали волненья!
Как окрылялись вы, бескрылые земли!
С какою нежностью читая их поэзы
(Иль как говаривали прадеды: стихи…),
Вы на свиданья шли, и грезового Грэза
Головки отражал озерный малахит…
Вы были женственны и женски-героичны,
Царица делалась рабынею любви.
Да, были женственны и значит – поэтичны,
И вашу память я готов благословить…
А вся беспомощность, святая деликатность,
Готовность жертвовать для мужа, для детей!
Не в том ли, милые, вся ваша беззакатность?
Не в том ли, нежные, вся прелесть ваших дней?
Я сам за равенство, я сам за равноправье, –
Но… дама-инженер? но… дама-адвокат?
Здесь в слове женщины – неясное бесславье
И скорбь отчаянья: Наивному закат…
Во имя прошлого, во имя Сказки Дома,
Во имя Музыки, и Кисти, и Стиха,
Не все, о женщины, цепляйтесь за дипломы, –
Хоть сотню «глупеньких»: от «умных» жизнь суха!
Мелькает крупное. Кто – прошлому соперник?
Где просто женщина? где женщина-поэт?
Да, только Гиппиус и Щепкина-Куперник:
Поэт лишь первая; вторая мир и свет…
Есть… есть Ахматова, Моравская, Столица…
Но не довольно ли? Как «нет» звучит здесь «есть»,
Какая мелочность! И как безлики лица!
И модно их иметь, но нужно их прочесть.
Их много пишущих: их дюжина, иль сорок!
Их сотни, тысячи! Но кто из них поэт?
Как мало поэтесс! Как много стихотворок!
И Мирры Лохвицкой среди живущих – нет!
* * *
Игорь Северянин
Стихи И. Эренбурга
В дни пред паденьем Петербурга, –
В дни пред всемирною войной, –
Случайно книжка Эренбурга
Купилась где-то как-то мной.
едва лишь путь его начался,
любовь мазил и вундеркиндов
и подозрительность начальства.
Хоть век немало крови попил,
а у жасмина нежен стебель,
и струйки зыблются, и тепел
из трубки высыпанный пепел.
И мудрость хрупкая хранится,
еще не понятая всеми,
в тех разношерстных, чьи страницы
переворачивает время.
И чувство некое шестое
вбирает мира темный трепет.
Он знает более, чем стоит,
и проговариваться дрейфит.
Я все грехи его отрину
и не презрю их по-пустому
за то, что помнит он Марину
и верен свету золотому.
Таимой грустью воспаривши
в своем всезнанье одиноком,
легко ли помнить о Париже
у хмурого Кремля под боком?
Чего не вытерпит бумага!
Но клятвы юности исполнит
угомонившийся бродяга,
мечтатель, Соловей-разбойник.
Сперва поэт, потом прозаик,
неистов, мудр, великолепен,
он собирает и бросает,
с ним говорят Эйнштейн и Ленин.
Он помнит столько погребенных
и, озарен багряным полднем,
до барабанных перепонок
тревогой века переполнен.
Не знаю, верит ли он в Бога,
но я люблю такие лица —
они святы, как синагога.
Мы с ним смогли б договориться.
* * *
Игорь Северянин
Поэза о поэтессах
Как мало поэтесс! как много стихотворок!
О, где дни Жадовской! где дни Ростопчиной?
Дни Мирры Лохвицкой, чей образ сердцу дорог,
Стих гармонический и веющий весной?
О, сколько пламени, о, сколько вдохновенья
В их светлых творчествах вы жадно обрели!
Какие дивные вы ведали волненья!
Как окрылялись вы, бескрылые земли!
С какою нежностью читая их поэзы
(Иль как говаривали прадеды: стихи…),
Вы на свиданья шли, и грезового Грэза
Головки отражал озерный малахит…
Вы были женственны и женски-героичны,
Царица делалась рабынею любви.
Да, были женственны и значит – поэтичны,
И вашу память я готов благословить…
А вся беспомощность, святая деликатность,
Готовность жертвовать для мужа, для детей!
Не в том ли, милые, вся ваша беззакатность?
Не в том ли, нежные, вся прелесть ваших дней?
Я сам за равенство, я сам за равноправье, –
Но… дама-инженер? но… дама-адвокат?
Здесь в слове женщины – неясное бесславье
И скорбь отчаянья: Наивному закат…
Во имя прошлого, во имя Сказки Дома,
Во имя Музыки, и Кисти, и Стиха,
Не все, о женщины, цепляйтесь за дипломы, –
Хоть сотню «глупеньких»: от «умных» жизнь суха!
Мелькает крупное. Кто – прошлому соперник?
Где просто женщина? где женщина-поэт?
Да, только Гиппиус и Щепкина-Куперник:
Поэт лишь первая; вторая мир и свет…
Есть… есть Ахматова, Моравская, Столица…
Но не довольно ли? Как «нет» звучит здесь «есть»,
Какая мелочность! И как безлики лица!
И модно их иметь, но нужно их прочесть.
Их много пишущих: их дюжина, иль сорок!
Их сотни, тысячи! Но кто из них поэт?
Как мало поэтесс! Как много стихотворок!
И Мирры Лохвицкой среди живущих – нет!
* * *
Игорь Северянин
Стихи И. Эренбурга
В дни пред паденьем Петербурга, –
В дни пред всемирною войной, –
Случайно книжка Эренбурга
Купилась где-то как-то мной.
И культом ли католицизма,
Жеманным ли слегка стихом
С налетом хрупкого лиризма,
Изящным ли своим грехом, –
Но только книга та пленила
Меня на несколько недель:
Не шрифт, казалось, не чернила,
А – тонко-тонная пастэль.
Прошли лета. Кумиры ниже
Склонились, я – достиг вершин:
Мне автор книгу из Парижа
Прислал в обложке crépe de chine.
Она была, должно быть, третьим
Его трудом, но в ней, увы,
Не удалось того мне встретить,
Что важно в небе – синевы.
И нет в ней сладостного ига,
Померкла росная краса…
Мне скажут: «Небеса не книга», –
Пусть так: но книга – небеса!..
* * *
Анатолий Постолов
Петру Вегину
…в белой церкви отпели.
Он лежал как чужой
в деревянной постели.
Воспаленной душой
вылезая из грима,
превращаясь - как знать? -
то ли в облачко дыма,
то ль в мистический знак
бесконечности. Это
самый лучший удел,
а точнее предел
горькой жизни поэта.
А фотограф-мастак
был готов расстараться
(то ли друг, то ли так -
сам себе папарацци).
Но напрасно глазок
объектива упрямо
наплывал на висок
и искал панораму.
Отвергала душа
рукотворные вещи.
Объектив витража
брал точнее и резче.
У подножья горы
он был в землю опущен,
в неземные миры
как бы с миром отпущен.
Строй разлапистых елей
восходил на холмы.
В душный август летели
Отпеванья псалмы.
Тело в склепе. Душа
Остаётся снаружи,
чтоб себя обнаружить
повсеместно. Дыша
чернолесьем отчизны.
Мокрой прелью шурша,
как когда-то при жизни.
А быть может её,
как щепу иль огарок,
волочит вороньё
голливудским бульваром.
Безнадежно больна
тонет в муторной луже,
доставая до дна,
где ей хуже и хуже…
Но она прорастет
сквозь обрыдлую маску,
в холст небесный вотрет
пересохшие краски,
и, уже не боясь
оказаться бездомной,
смоет прежнюю грязь
перед синью бездонной…
Невысокий забор
на отлете погоста.
Шепоток, разговор…
Кто заумно, кто просто
ищет смысл и резон,
объясняет причины…
но чем глубже кручина,
тем слабее закон
и сильнее сомненье,
что нам душу грызёт.
Ибо твари полёт -
не чета воспаренью.
Вот и тянется след
по низине погоста…
Жил такой-то поэт…
И не мог он коросту
перечеркнутых лет
соскоблить. Не пытался…
Слов бессмысленный бред
где-то в глотке остался.
Не сказал ничего.
Только губы синели.
Хорошо, что его
В Белой церкви отпели.
* * *
Игорь Северянин
Георгию Шенгели
Ты, кто в плаще и в шляпе мягкой,
Вставай за дирижерский пульт!
Я славлю культ помпезный Вакха,
Ты – Аполлона строгий культ!
В твоем оркестре мало скрипок:
В нем все корнеты-а-пистон.
Ищи средь нотных белых кипок
Тетрадь, где – смерть и цепий стон!
Ведь так ли, иначе (иначе?…)
Контрастней раков и стрекоз,
Сойдемся мы в одной задаче:
Познать непознанный наркоз…
Ты, завсегдатай мудрых келий,
Поющий смерть, и я, моряк,
Пребудем в дружбе: нам, Шенгели,
Сужден везде один маяк.
* * *
Игорь Северянин
Пять поэтов
Иванов, кто во всеоружьи
И блеске стиля, – не поэт:
В его значительном ненужьи
Биенья сердца вовсе нет.
Андрея Белого лишь чую,
Андрея Белого боюсь…
С его стихами не кочую
И в их глубины не вдаюсь…
Жеманным ли слегка стихом
С налетом хрупкого лиризма,
Изящным ли своим грехом, –
Но только книга та пленила
Меня на несколько недель:
Не шрифт, казалось, не чернила,
А – тонко-тонная пастэль.
Прошли лета. Кумиры ниже
Склонились, я – достиг вершин:
Мне автор книгу из Парижа
Прислал в обложке crépe de chine.
Она была, должно быть, третьим
Его трудом, но в ней, увы,
Не удалось того мне встретить,
Что важно в небе – синевы.
И нет в ней сладостного ига,
Померкла росная краса…
Мне скажут: «Небеса не книга», –
Пусть так: но книга – небеса!..
* * *
Анатолий Постолов
Петру Вегину
"…душа за время жизни
Приобретает смертные черты."
И. Бродский
…в белой церкви отпели.
Он лежал как чужой
в деревянной постели.
Воспаленной душой
вылезая из грима,
превращаясь - как знать? -
то ли в облачко дыма,
то ль в мистический знак
бесконечности. Это
самый лучший удел,
а точнее предел
горькой жизни поэта.
А фотограф-мастак
был готов расстараться
(то ли друг, то ли так -
сам себе папарацци).
Но напрасно глазок
объектива упрямо
наплывал на висок
и искал панораму.
Отвергала душа
рукотворные вещи.
Объектив витража
брал точнее и резче.
У подножья горы
он был в землю опущен,
в неземные миры
как бы с миром отпущен.
Строй разлапистых елей
восходил на холмы.
В душный август летели
Отпеванья псалмы.
Тело в склепе. Душа
Остаётся снаружи,
чтоб себя обнаружить
повсеместно. Дыша
чернолесьем отчизны.
Мокрой прелью шурша,
как когда-то при жизни.
А быть может её,
как щепу иль огарок,
волочит вороньё
голливудским бульваром.
Безнадежно больна
тонет в муторной луже,
доставая до дна,
где ей хуже и хуже…
Но она прорастет
сквозь обрыдлую маску,
в холст небесный вотрет
пересохшие краски,
и, уже не боясь
оказаться бездомной,
смоет прежнюю грязь
перед синью бездонной…
Невысокий забор
на отлете погоста.
Шепоток, разговор…
Кто заумно, кто просто
ищет смысл и резон,
объясняет причины…
но чем глубже кручина,
тем слабее закон
и сильнее сомненье,
что нам душу грызёт.
Ибо твари полёт -
не чета воспаренью.
Вот и тянется след
по низине погоста…
Жил такой-то поэт…
И не мог он коросту
перечеркнутых лет
соскоблить. Не пытался…
Слов бессмысленный бред
где-то в глотке остался.
Не сказал ничего.
Только губы синели.
Хорошо, что его
В Белой церкви отпели.
* * *
Игорь Северянин
Георгию Шенгели
Ты, кто в плаще и в шляпе мягкой,
Вставай за дирижерский пульт!
Я славлю культ помпезный Вакха,
Ты – Аполлона строгий культ!
В твоем оркестре мало скрипок:
В нем все корнеты-а-пистон.
Ищи средь нотных белых кипок
Тетрадь, где – смерть и цепий стон!
Ведь так ли, иначе (иначе?…)
Контрастней раков и стрекоз,
Сойдемся мы в одной задаче:
Познать непознанный наркоз…
Ты, завсегдатай мудрых келий,
Поющий смерть, и я, моряк,
Пребудем в дружбе: нам, Шенгели,
Сужден везде один маяк.
* * *
Игорь Северянин
Пять поэтов
Иванов, кто во всеоружьи
И блеске стиля, – не поэт:
В его значительном ненужьи
Биенья сердца вовсе нет.
Андрея Белого лишь чую,
Андрея Белого боюсь…
С его стихами не кочую
И в их глубины не вдаюсь…
Пастэльно-мягок ясный Бунин,
Отчетлив и приятно свеж;
Он весь осолнечен, олунен,
Но незнаком ему мятеж.
Кузмин изломан черезмерно,
Напыщен и отвратно-прян.
Рокфорно, а не камамберно,
Жеманно-спецно обуян.
Отчетлив и приятно свеж;
Он весь осолнечен, олунен,
Но незнаком ему мятеж.
Кузмин изломан черезмерно,
Напыщен и отвратно-прян.
Рокфорно, а не камамберно,
Жеманно-спецно обуян.
Нет живописней Гумилева:
В лесу тропическом костер!
Благоговейно любит слово.
Он повелительно-остер.
* * *
Николай Старшинов
В лесу тропическом костер!
Благоговейно любит слово.
Он повелительно-остер.
* * *
Николай Старшинов
ПАМЯТИ НИКОЛАЯ АНЦИФЕРОВА
Как внук голодных,
нищих
и забитых
(у нас сегодня кое-кем забытых)
ты, верно, не любил искусство сытых,
живя в воспоминаниях своих.
И был биологически различным
с тем шустрым стилем
полузаграничным
твой простоватый,
но весомый стих.
Как сын и брат
пехоты русской серой,
когда земля, как ад,
дышала серой,
от жизни получивший полной мерой,
ты всё же никогда не унывал.
Ты продал душу
им, чертям
чумазым:
шахтёрам
и шофёрам, гнавшим МАЗы,
механикам ремонтной автобазы,
которых ты любил и понимал.
Ты принимал
российских тех поэтов,
не раз глядевших
в дуло пистолета,
которые в прозрении своём
вносили в круг
дворянского семейства
тот свежий
и крамольный дух
плебейства,
что мы сейчас народностью зовём.
Они сошли с парнасской высоты
и обрели народное признанье
в тот миг,
когда сознанье красоты
соединили с чувством состраданья.
…Пред вечностью не суетился ты.
Пусть имена иные
смоет Лета,
но вижу я:
народ несёт цветы
к могиле Неизвестного поэта.
* * *
Борис Слуцкий
КСЕНИЯ НЕКРАСОВА
Как внук голодных,
нищих
и забитых
(у нас сегодня кое-кем забытых)
ты, верно, не любил искусство сытых,
живя в воспоминаниях своих.
И был биологически различным
с тем шустрым стилем
полузаграничным
твой простоватый,
но весомый стих.
Как сын и брат
пехоты русской серой,
когда земля, как ад,
дышала серой,
от жизни получивший полной мерой,
ты всё же никогда не унывал.
Ты продал душу
им, чертям
чумазым:
шахтёрам
и шофёрам, гнавшим МАЗы,
механикам ремонтной автобазы,
которых ты любил и понимал.
Ты принимал
российских тех поэтов,
не раз глядевших
в дуло пистолета,
которые в прозрении своём
вносили в круг
дворянского семейства
тот свежий
и крамольный дух
плебейства,
что мы сейчас народностью зовём.
Они сошли с парнасской высоты
и обрели народное признанье
в тот миг,
когда сознанье красоты
соединили с чувством состраданья.
…Пред вечностью не суетился ты.
Пусть имена иные
смоет Лета,
но вижу я:
народ несёт цветы
к могиле Неизвестного поэта.
* * *
Борис Слуцкий
КСЕНИЯ НЕКРАСОВА
(Воспоминания)
У Малого театра, прозрачна, как тара,
Себя подставляя под струи Москвы,
Ксюша меня увидала и стала:
— Боря! Здравствуйте! Это вы?
А я-то думала, тебя убили.
А ты живой. А ты майор.
Какие вы все хорошие были.
А я вас помню всех до сих пор.
Я только вернулся после выигранной,
После великой второй мировой
И к жизни, как листик, из книги выдранный,
Липнул.
И был — майор.
И — живой.
Я был майор и пачку тридцаток
Истратить ради встречи готов,
Ради прожитых рядом тридцатых
Тощих студенческих наших годов.
— Но я обедала, — сказала Ксения.—
Не помню что, но я сыта.
Купи мне лучше цветы
синие,
Люблю смотреть на эти цвета.
Тучный Островский, поджав штиблеты,
Очистил место, где сидеть
Ее цветам синего цвета,
Ее волосам, начинавшим седеть.
И вот,
моложе дубовой рощицы,
И вот,
стариннее
дубовой сохи,
Ксюша голосом
сельской пророчицы
Запричитала свои стихи.
* * *
Юлия Друнина
ОТ ИМЕНИ ПАВШИХ
(На вечере поэтов, погибших на войне)
Сегодня на трибуне мы — поэты,
Которые убиты на войне,
Обнявшие со стоном землю где-то
В своей ли, в зарубежной стороне.
Читают нас друзья-однополчане,
Сединами они убелены.
Но перед залом, замершим в молчанье,
Мы — парни, не пришедшие с войны.
Слепят «юпитеры», а нам неловко —
Мы в мокрой глине с головы до ног.
В окопной глине каска и винтовка,
В проклятой глине тощий вещмешок.
Простите, что ворвалось с нами пламя,
Что еле-еле видно нас в дыму,
И не считайте, будто перед нами
Вы вроде виноваты, — ни к чему.
Ах, ратный труд — опасная работа,
Не всех ведет счастливая звезда.
Всегда с войны домой приходит кто-то,
А кто-то не приходит никогда.
Вас только краем опалило пламя,
То пламя, что не пощадило нас.
Но если б поменялись мы местами,
То в этот вечер, в этот самый час,
Бледнея, с горлом, судорогой сжатым,
Губами, что вдруг сделались сухи,
Мы, чудом уцелевшие солдаты,
Читали б ваши юные стихи.
* * *
Борис Слуцкий
У Малого театра, прозрачна, как тара,
Себя подставляя под струи Москвы,
Ксюша меня увидала и стала:
— Боря! Здравствуйте! Это вы?
А я-то думала, тебя убили.
А ты живой. А ты майор.
Какие вы все хорошие были.
А я вас помню всех до сих пор.
Я только вернулся после выигранной,
После великой второй мировой
И к жизни, как листик, из книги выдранный,
Липнул.
И был — майор.
И — живой.
Я был майор и пачку тридцаток
Истратить ради встречи готов,
Ради прожитых рядом тридцатых
Тощих студенческих наших годов.
— Но я обедала, — сказала Ксения.—
Не помню что, но я сыта.
Купи мне лучше цветы
синие,
Люблю смотреть на эти цвета.
Тучный Островский, поджав штиблеты,
Очистил место, где сидеть
Ее цветам синего цвета,
Ее волосам, начинавшим седеть.
И вот,
моложе дубовой рощицы,
И вот,
стариннее
дубовой сохи,
Ксюша голосом
сельской пророчицы
Запричитала свои стихи.
* * *
Юлия Друнина
ОТ ИМЕНИ ПАВШИХ
(На вечере поэтов, погибших на войне)
Сегодня на трибуне мы — поэты,
Которые убиты на войне,
Обнявшие со стоном землю где-то
В своей ли, в зарубежной стороне.
Читают нас друзья-однополчане,
Сединами они убелены.
Но перед залом, замершим в молчанье,
Мы — парни, не пришедшие с войны.
Слепят «юпитеры», а нам неловко —
Мы в мокрой глине с головы до ног.
В окопной глине каска и винтовка,
В проклятой глине тощий вещмешок.
Простите, что ворвалось с нами пламя,
Что еле-еле видно нас в дыму,
И не считайте, будто перед нами
Вы вроде виноваты, — ни к чему.
Ах, ратный труд — опасная работа,
Не всех ведет счастливая звезда.
Всегда с войны домой приходит кто-то,
А кто-то не приходит никогда.
Вас только краем опалило пламя,
То пламя, что не пощадило нас.
Но если б поменялись мы местами,
То в этот вечер, в этот самый час,
Бледнея, с горлом, судорогой сжатым,
Губами, что вдруг сделались сухи,
Мы, чудом уцелевшие солдаты,
Читали б ваши юные стихи.
* * *
Борис Слуцкий
Н. Н. АСЕЕВ ЗА РАБОТОЙ
(Очерк)
Асеев пишет совсем неплохие,
Довольно значительные статьи.
А в общем статьи — не его стихия.
Его стихия — это стихи.
С утра его мучат сто болезней.
Лекарства — что?
Они — пустяки!
Асеев думает: что полезней?
И вдруг решает: полезней — стихи.
И он взлетает, старый ястреб,
И боли его не томят, не злят,
И взгляд становится тихим, ясным,
Жестоким, точным — снайперский взгляд,
И словно весною — щепка на щепку —
Рифма лезет на рифму цепко.
И вдруг серебреет его пожелтелая
Семидесятилетняя седина,
И кружка поэзии, полная, целая,
Сразу выхлестывается — до дна.
И все повадки —
пенсионера,
И все поведение —
старика
Становятся поступью пионера,
Которая, как известно, легка.
И строфы равняются — рота к роте,
И свищут, словно в лесу соловьи,
И все это пишется на обороте
Отложенной почему-то статьи.
* * *
Александр Филиппов
ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ
В этом вовсе нет секрета,
Хоть у каждого спроси:
Тяжело живут поэты,
Особливо на Руси.
Шумно лаем на прохожих,
На безвинных, просто так.
Боже мой, как мы похожи
В это время на собак!
Псы дворовые из кожи
Лезут вон ни за шиша.
Зайца малого обложат,
Птиц спугнут из камыша.
За усердье до испарин,
За наигранную злость
После гона кинет барин
Им обглоданную кость.
Мы, поэты, после драки
За хозяйские дела
Точно так, как те собаки,
Ждем подачки со стола.
Если кушать хочешь, снова
На охоту поспешай.
Ведь у нас - свобода слова...
То ли слово, то ли лай.
* * *
Александр Нестругин
ПРОЩАЛЬНОЕ
Памяти Алексея Решетова и Николая Дмитриева
Тихо прошли мимо толп драчунов и кутил,
Будто Господь им заздравную чару не налил.
Вышли поэты – всё белым песочком светил -
К плёсу ночному, где донником жёлтым расплёскана налунь…
Асеев пишет совсем неплохие,
Довольно значительные статьи.
А в общем статьи — не его стихия.
Его стихия — это стихи.
С утра его мучат сто болезней.
Лекарства — что?
Они — пустяки!
Асеев думает: что полезней?
И вдруг решает: полезней — стихи.
И он взлетает, старый ястреб,
И боли его не томят, не злят,
И взгляд становится тихим, ясным,
Жестоким, точным — снайперский взгляд,
И словно весною — щепка на щепку —
Рифма лезет на рифму цепко.
И вдруг серебреет его пожелтелая
Семидесятилетняя седина,
И кружка поэзии, полная, целая,
Сразу выхлестывается — до дна.
И все повадки —
пенсионера,
И все поведение —
старика
Становятся поступью пионера,
Которая, как известно, легка.
И строфы равняются — рота к роте,
И свищут, словно в лесу соловьи,
И все это пишется на обороте
Отложенной почему-то статьи.
* * *
Александр Филиппов
ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ
В этом вовсе нет секрета,
Хоть у каждого спроси:
Тяжело живут поэты,
Особливо на Руси.
Шумно лаем на прохожих,
На безвинных, просто так.
Боже мой, как мы похожи
В это время на собак!
Псы дворовые из кожи
Лезут вон ни за шиша.
Зайца малого обложат,
Птиц спугнут из камыша.
За усердье до испарин,
За наигранную злость
После гона кинет барин
Им обглоданную кость.
Мы, поэты, после драки
За хозяйские дела
Точно так, как те собаки,
Ждем подачки со стола.
Если кушать хочешь, снова
На охоту поспешай.
Ведь у нас - свобода слова...
То ли слово, то ли лай.
* * *
Александр Нестругин
ПРОЩАЛЬНОЕ
Памяти Алексея Решетова и Николая Дмитриева
Тихо прошли мимо толп драчунов и кутил,
Будто Господь им заздравную чару не налил.
Вышли поэты – всё белым песочком светил -
К плёсу ночному, где донником жёлтым расплёскана налунь…
Молча стоят. Но слова, что Россией больны,
Что не давали скользить в это время пустое, -
Не изреченные – долго и горько слышны
В зябком, раскинувшем сонные реки за край мироздания русском просторе.
Что им сказать? Что всё тянутся, тянутся к ним
Вётлы Тарусы и говор на камском причале?
…Тихо стоят, как вечерний нетающий дым, -
Не укоряя за выспренность скомканной, сбивчивой речи – и не отвечая.
Рядом стоят…
* * *
Расставшись навеки с друзьями...
Михаил Бондарев
Памяти Н. К. Старшинова
Расставшись навеки с друзьями,
Уйдя из родимого дома,
Поэты вернутся дождями,
Раскатами вешнего грома.
Поэты вернутся лучами
Июльского жаркого солнца
На встречу с родными, друзьями,
Их свет на потомков прольется.
Малиново-желтой листвою
Закружат в саду возле дома.
Они будут рядом с тобою,
Как будто здесь все им знакомо.
И ночью январской морозной,
Когда снег поет под ногами,
Серебряной россыпью звездной
Блеснут над седыми снегами.
Поэты уходят… И грустно,
И тяжко в душе и на сердце.
Пройдет… и поэты вернутся,
Чтоб памятью нашей согреться.
* * *
Александр Балтин
К 10-ЛЕТИЮ СМЕРТИ Ю. ЛЕВИТАНСКОГО
Рубцы оставила война,
Что на душе не заживают.
Известно – люди выбирают
Дорогу для себя – она
Одна по сути для любого.
Огни поэзии мерцают
Оттенка нежно-золотого.
Мы все из прошлого растём,
Поскольку будущего нету,
Лишь настоящее – а в нём
Доверье солнечному свету.
Иначе сгинем в темноте.
Кинематограф обольщает,
Картины предлагая те,
Которые не забывает
Пацан до старости уже.
Война закончена. Однако
Она опять звучит в душе
Огнём и одоленьем мрака.
* * *
Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь,
в белом плаще английском уходит прочь.
В черную ночь уходит в белом плаще,
вообще одинок, одинок вообще.
Вообще одинок, как разбитый полк:
ваш Петербург больше похож на Нью-Йорк.
Вот мы сидим в кафе и глядим в окно:
Леонтьев А., Рыжий Б., Дозморов О.
Вспомнить пытаемся каждый любимый жест:
как матерится, как говорит, как ест.
Как одному: "другу", а двум другим
он "Сапожок" подписывал: "дорогим".
Как говорить о Бродском при нем нельзя.
Встал из-за столика: не провожать, друзья.
Завтра мне позвоните, к примеру, в час.
Грустно и больно: занят, целую вас!
* * *
Марк Богославский
Стих
Стихи – занятье бесполезное?
Удел взлохмаченных безумцев?
Но мне и вам нужна поэзия,
Как воздух, как вода и солнце!
Она исхлёстана цензурой…
Живёт в альбомах для девиц,
В ночных лесах, горах, озёрах
И в озорстве поющих птиц.
Тревожа ноздри и глаза,
Стихи, как на кошачьих лапах,
Ползут на каждый блеск и запах
И голосуют «за!за!за!»
За боль и перебои сердца
И за ночную тишину,
За то, чтоб не кончалось детство
И птицы славили весну.
Не криком рвёт она нам душу.
Зачем? Предпочитая вкрадчивость,
Она нас понукает слушать
То, что иные подло прячут.
Нащупав главный нерв поэзии, —
Её божественную женственность,
Бестрашно мы идём по лезвию
Любви и баснословной нежности.
Поэзия! Да ты ж циркачка,
Наездница, акробатесса,
Жонглёрша, рыжая чудачка,
Сказать точнее, клоунесса.
Ты вся азарт! И смех сквозь слёзы:
В обнимку с тиграми лежишь?..
Какая, оцените, поза
Для фотографий и афиш!
… Пока поэзия дурачится,
Наука думает всерьёз?
И о трагедии кулачества,
О тайном ужасе палачества
И о целебной силе слёз.
Науку все мы уважаем –
За мысли истинно великие.
… Особенно, когда ужалены
Врачующей пчелой религии.
Христос, поцеловав Иуду,
Не согрешил: обрёл бессмертие!
Вы в это таинство, как в чудо
Необъяснимое, поверьте!
Всё с ног на голову поставлено?
Стихачество вас изумило
Не хрупкостью своей хрустальной –
Стальной несокрушимой силой.
Всего лишь цепкие созвучия,
Заумные ассоциации,
Таинственные и певучие,
Как глас инопланетной рации.
Сие не старческий маразм,
А нечто, что превыше логики,
Что не приемлет трезвый разум,
Всегда по-нищенски убогий.
Взрывоопасный дар поэта,
Как воровское ремесло,
Когда-то гордо был воспетым,
А нынче проклят, яко зло.
Кровавым обливаясь потом,
Поэзия, ты вновь неистовствуя,
Ведёшь опасную охоту
На вечные, как небо, истины?
Извечное! Ты злободневно.
Ты проклинаешь и зовёшь,
Дрожа от ужаса и гнева,
И правдой именуешь ложь.
Поэты! Радуясь, греша,
Не веруя и веря снова,
Ищите, где жива душа
Душеспасительного слова!
Топча лирические штампы,
Вы злобу дня воруйте ловко
У Пастернака, Мандельштама,
У Маяковского и Блока.
* * *
В «пятой графе», где о национальности...
Анатолий Аврутин
В «пятой графе», где о национальности
Воют анкеты с наркомовских лет,
Я б начертал, презирая банальности,
Гневно-торжественно: «Русский поэт».
И осторожно, чернилами синими,
В карточке, где обтрепались края:
«Русский поэт… Вывод сделал консилиум…» –
Вместо диагноза вывел бы я.
А упаду в одинокой дубравушке,
Бледным лицом да на заячий след,
«Русский поэт», – пусть напишут на камушке,
Просто, без имени: «Русский поэт»…
Что не давали скользить в это время пустое, -
Не изреченные – долго и горько слышны
В зябком, раскинувшем сонные реки за край мироздания русском просторе.
Что им сказать? Что всё тянутся, тянутся к ним
Вётлы Тарусы и говор на камском причале?
…Тихо стоят, как вечерний нетающий дым, -
Не укоряя за выспренность скомканной, сбивчивой речи – и не отвечая.
Рядом стоят…
* * *
Расставшись навеки с друзьями...
Михаил Бондарев
Памяти Н. К. Старшинова
Расставшись навеки с друзьями,
Уйдя из родимого дома,
Поэты вернутся дождями,
Раскатами вешнего грома.
Поэты вернутся лучами
Июльского жаркого солнца
На встречу с родными, друзьями,
Их свет на потомков прольется.
Малиново-желтой листвою
Закружат в саду возле дома.
Они будут рядом с тобою,
Как будто здесь все им знакомо.
И ночью январской морозной,
Когда снег поет под ногами,
Серебряной россыпью звездной
Блеснут над седыми снегами.
Поэты уходят… И грустно,
И тяжко в душе и на сердце.
Пройдет… и поэты вернутся,
Чтоб памятью нашей согреться.
* * *
Александр Балтин
К 10-ЛЕТИЮ СМЕРТИ Ю. ЛЕВИТАНСКОГО
Рубцы оставила война,
Что на душе не заживают.
Известно – люди выбирают
Дорогу для себя – она
Одна по сути для любого.
Огни поэзии мерцают
Оттенка нежно-золотого.
Мы все из прошлого растём,
Поскольку будущего нету,
Лишь настоящее – а в нём
Доверье солнечному свету.
Иначе сгинем в темноте.
Кинематограф обольщает,
Картины предлагая те,
Которые не забывает
Пацан до старости уже.
Война закончена. Однако
Она опять звучит в душе
Огнём и одоленьем мрака.
* * *
Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь...
БОРИС РЫЖИЙРейн Евгений Борисыч уходит в ночь,
в белом плаще английском уходит прочь.
В черную ночь уходит в белом плаще,
вообще одинок, одинок вообще.
Вообще одинок, как разбитый полк:
ваш Петербург больше похож на Нью-Йорк.
Вот мы сидим в кафе и глядим в окно:
Леонтьев А., Рыжий Б., Дозморов О.
Вспомнить пытаемся каждый любимый жест:
как матерится, как говорит, как ест.
Как одному: "другу", а двум другим
он "Сапожок" подписывал: "дорогим".
Как говорить о Бродском при нем нельзя.
Встал из-за столика: не провожать, друзья.
Завтра мне позвоните, к примеру, в час.
Грустно и больно: занят, целую вас!
* * *
Марк Богославский
Стих
Стихи – занятье бесполезное?
Удел взлохмаченных безумцев?
Но мне и вам нужна поэзия,
Как воздух, как вода и солнце!
Она исхлёстана цензурой…
Живёт в альбомах для девиц,
В ночных лесах, горах, озёрах
И в озорстве поющих птиц.
Тревожа ноздри и глаза,
Стихи, как на кошачьих лапах,
Ползут на каждый блеск и запах
И голосуют «за!за!за!»
За боль и перебои сердца
И за ночную тишину,
За то, чтоб не кончалось детство
И птицы славили весну.
Не криком рвёт она нам душу.
Зачем? Предпочитая вкрадчивость,
Она нас понукает слушать
То, что иные подло прячут.
Нащупав главный нерв поэзии, —
Её божественную женственность,
Бестрашно мы идём по лезвию
Любви и баснословной нежности.
Поэзия! Да ты ж циркачка,
Наездница, акробатесса,
Жонглёрша, рыжая чудачка,
Сказать точнее, клоунесса.
Ты вся азарт! И смех сквозь слёзы:
В обнимку с тиграми лежишь?..
Какая, оцените, поза
Для фотографий и афиш!
… Пока поэзия дурачится,
Наука думает всерьёз?
И о трагедии кулачества,
О тайном ужасе палачества
И о целебной силе слёз.
Науку все мы уважаем –
За мысли истинно великие.
… Особенно, когда ужалены
Врачующей пчелой религии.
Христос, поцеловав Иуду,
Не согрешил: обрёл бессмертие!
Вы в это таинство, как в чудо
Необъяснимое, поверьте!
Всё с ног на голову поставлено?
Стихачество вас изумило
Не хрупкостью своей хрустальной –
Стальной несокрушимой силой.
Всего лишь цепкие созвучия,
Заумные ассоциации,
Таинственные и певучие,
Как глас инопланетной рации.
Сие не старческий маразм,
А нечто, что превыше логики,
Что не приемлет трезвый разум,
Всегда по-нищенски убогий.
Взрывоопасный дар поэта,
Как воровское ремесло,
Когда-то гордо был воспетым,
А нынче проклят, яко зло.
Кровавым обливаясь потом,
Поэзия, ты вновь неистовствуя,
Ведёшь опасную охоту
На вечные, как небо, истины?
Извечное! Ты злободневно.
Ты проклинаешь и зовёшь,
Дрожа от ужаса и гнева,
И правдой именуешь ложь.
Поэты! Радуясь, греша,
Не веруя и веря снова,
Ищите, где жива душа
Душеспасительного слова!
Топча лирические штампы,
Вы злобу дня воруйте ловко
У Пастернака, Мандельштама,
У Маяковского и Блока.
* * *
В «пятой графе», где о национальности...
Анатолий Аврутин
В «пятой графе», где о национальности
Воют анкеты с наркомовских лет,
Я б начертал, презирая банальности,
Гневно-торжественно: «Русский поэт».
И осторожно, чернилами синими,
В карточке, где обтрепались края:
«Русский поэт… Вывод сделал консилиум…» –
Вместо диагноза вывел бы я.
А упаду в одинокой дубравушке,
Бледным лицом да на заячий след,
«Русский поэт», – пусть напишут на камушке,
Просто, без имени: «Русский поэт»…
* * *
Анатолий Аврутин
ВДАЛИ ОТ РОССИИ …
ВДАЛИ ОТ РОССИИ …
Вдали от России
непросто быть русским поэтом,
Непросто Россию
вдали от России беречь.
Быть крови нерусской…
И русским являться при этом,
Катая под горлом великую русскую речь.
Вдали от России
и птицы летят по-другому--
Еще одиноче безрадостно тающий клин…
Вдали от России
труднее дороженька к дому
Среди потемневших,
среди поседевших долин.
Вдали от России…
Да что там -- вдали от России,
Когда ты душою порой вдалеке от себя…
Дожди моросили…
Дожди, вы у нас не спросили,
Как жить вдалеке от России, Россию любя?..
Вдали от России
круты и пологие спуски,
Глухи алтари,
сколь ни падай в смятении ниц.
Но крикни: «Россия»…
И эхо ответит по-русски,
Ведь русское эхо нерусских не знает границ…
* * *
Инна Костяковская
Памяти Новеллы Матвеевой
В темно-сером небосводе
расписался самолёт.
Вновь друзья мои уходят,
так беспечен их уход.
Оставляют мне томленье
нежных песен, тонких струн,
оставляют мне горенье
навсегда погасших лун.
По сиреневому лугу,
в край, где вечная весна
улетают друг за другом
в дымку облачного сна.
И приходится учиться
мне за них и жить, и петь
и, когда нибудь случится-
так же в небо улететь...
непросто быть русским поэтом,
Непросто Россию
вдали от России беречь.
Быть крови нерусской…
И русским являться при этом,
Катая под горлом великую русскую речь.
Вдали от России
и птицы летят по-другому--
Еще одиноче безрадостно тающий клин…
Вдали от России
труднее дороженька к дому
Среди потемневших,
среди поседевших долин.
Вдали от России…
Да что там -- вдали от России,
Когда ты душою порой вдалеке от себя…
Дожди моросили…
Дожди, вы у нас не спросили,
Как жить вдалеке от России, Россию любя?..
Вдали от России
круты и пологие спуски,
Глухи алтари,
сколь ни падай в смятении ниц.
Но крикни: «Россия»…
И эхо ответит по-русски,
Ведь русское эхо нерусских не знает границ…
* * *
Инна Костяковская
Памяти Новеллы Матвеевой
В темно-сером небосводе
расписался самолёт.
Вновь друзья мои уходят,
так беспечен их уход.
Оставляют мне томленье
нежных песен, тонких струн,
оставляют мне горенье
навсегда погасших лун.
По сиреневому лугу,
в край, где вечная весна
улетают друг за другом
в дымку облачного сна.
И приходится учиться
мне за них и жить, и петь
и, когда нибудь случится-
так же в небо улететь...
* * *
Жизнь людская всего лишь одна...
Бахыт Кенжеев
Жизнь людская всего лишь одна.
Я давно это понял, друзья,
И открытия делаю я,
Наблюдая за ней из окна.
Там прохожий под ветром дрожит,
И собака большая бежит,
После вьюги полночной с утра
Белым снегом сияет гора.
Даже в самом начале весны
Человеки бывают грустны,
И в отчаянье приходят они,
Если время проводят одни.
Я совсем не мелю языком –
Этот опыт мне очень знаком,
Чтобы весело жить, не болеть,
Очень важно его одолеть.
И конечно, поэт Владислав
Ходасевич безумно не прав –
Только мусор, и ужас, и ад
Уловил за окном его взгляд.
И добавлю, что Хармс Даниил
Тоже скептик неправильный был –
Злые дети играли с говном
За его ленинградским окном.
Не горюй, если сердце болит!
Вон в коляске слепой инвалид –
Если б был он без рук и без ног,
Далеко бы уехать не смог.
Но имея коляску и пса,
Не снимает руки с колеса,
И хорошие разные сны
Наблюдает заместо весны.
Умирает один и другой.
Человек без ноги и с ногой.
Но подумаю это едва –
Распухает моя голова.
И опять за огромным окном
Жизнь куда-то бежит с фонарем,
Жизнь куда-то спешит налегке
С фонарем и тюльпаном в руке.
* * *
Наталия Кравченко
Борис Рыжий
Мир свердловской окраины.
Подворотни, кенты.
Было сердце изранено,
несмотря на понты.
Иудейская нация.
Мусора, кореши...
За блатной интонацией –
беззащитность души.
Не тюрьма, не котельная,
не в терновом венце,
но пугала смертельная
тень на юном лице.
Никакой совместимости –
лучше пропасть во ржи!
И не надо красивости,
вашей фальши и лжи.
Нет, не словочеркание, –
грусть, берёзка, ветла, –
было самосжигание,
так по-русски, дотла!
Что-то жаркое, жалкое
мне уснуть не даёт.
Скверы, арки и ангелы
помнят имя твоё.
От накликанной гибели –
до небесных верхов...
Я не знаю пронзительней
и больнее стихов.
Свалки, урки плечистые,
дым ночей воровских,
а над всем этим – чистая
литургия тоски.
Песнь разлуки и горести,
просветления пир...
И печальнее повести
не знавал и Шекспир.
Алкоголик, юродивый,
ну зачем, на фига?!.
Но осталась мелодия
на века, на века.
* * *
Зиновий ВальшонокТРИ БОРИСА
Грустные ромашки,
хвощ да лопухи.
Тяпнем по рюмашке,
заведем стихи.
В тайне полумрака
здесь, за гаражом,
свечку Пастернака
мысленно зажжём.
И скорбящий Слуцкий,
как родных людей,
помянёт по-русски
рыжих лошадей.
Чичибабин, взором
прост и не мастит,
горстью помидоров
красных угостит.
Клевер да сурепка,
плющ да лебеда.
Век стегал их крепко,
дар секла беда.
Тот сдыхал в опале,
этот гнил в тюрьме.
Цензоры не спали,
бдел стукач во тьме.
В мире барбарисов,
хмеля да крапив
судьбы трех Борисов
горькой окропим.
И читать до третьих
будем петухов.
Можно ль жить на свете
без таких стихов?..
* * *
Игорь Чиннов
Был освещён торжественный фасад...
Был освещён торжественный фасад
Парижской оперы. И был высок, велик
Триумф крылатых Муз, божественный парад.
Я помнил те венки, простёртые в закат,
И надпись «Poésie Lyrique».
Я жил в Париже целых восемь лет,
Уехал тридцать лет тому назад.
Там жили русские поэты. Больше нет
В живых почти ни одного. Конь Блед
Умчал их в тот, небесный вертоград?
В землице Франции они лежат.
Они писали русские стихи.
Они из-за кладбищенских оград
Кивают мне: — Хотелось бы, собрат,
В Россию… А? Да где ж: дела — плохи.
В землице русской? У берёзок, в ряд?
Нет, вряд ли. И мечтать напрасный труд,
Что наши трупы въедут в Петроград
(Что бронзовые Музы осенят
Храм Эмигрантской Лирики?). Капут.
А вот стихи — дойдут. Стихи — дойдут.
Парижской оперы. И был высок, велик
Триумф крылатых Муз, божественный парад.
Я помнил те венки, простёртые в закат,
И надпись «Poésie Lyrique».
Я жил в Париже целых восемь лет,
Уехал тридцать лет тому назад.
Там жили русские поэты. Больше нет
В живых почти ни одного. Конь Блед
Умчал их в тот, небесный вертоград?
В землице Франции они лежат.
Они писали русские стихи.
Они из-за кладбищенских оград
Кивают мне: — Хотелось бы, собрат,
В Россию… А? Да где ж: дела — плохи.
В землице русской? У берёзок, в ряд?
Нет, вряд ли. И мечтать напрасный труд,
Что наши трупы въедут в Петроград
(Что бронзовые Музы осенят
Храм Эмигрантской Лирики?). Капут.
А вот стихи — дойдут. Стихи — дойдут.
* * *
Александр Блок
3. Н. Гиппиус
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы - дети страшных лет России -
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы -
Кровавый отсвет в лицах есть.
Есть немота - то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье,-
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие твое!
Пропавшим без вести
Считали вас никчемными, пропащими,
Но вы - то и остались настоящими.
Стучитесь в души вы тревожно,
И жить без вас нам стало невозможно.
Труба трубит, рыдает окарина...
Бездомная мятежница Марина,
Когда б в своей затерянной могиле
Ты знала, как тебя мы полюбили!
А ты, шаман, великий маг созвучий,
Оставивший нам Камень бел - горючий,
Не ты ли под окошком в ночь холодную
Поешь себе же самому отходную...
А тот, кого из дома выносили
Под ропот музыки в июньской сини,
С откинутой седою головою...
Его могила поросла травою,
Но слышно бормотанье дни за днями -
То горький голос преданного нами.
Под соснами трава теснится густо.
Как скучно без него, как пусто!
...Простите нас, еще живых, счастливых,
Стерней торчащих на пустынных нивах.
Погибшие,как без вести пропавшие,
Простите эти слезы опоздавшие!
3. Н. Гиппиус
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы - дети страшных лет России -
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы -
Кровавый отсвет в лицах есть.
Есть немота - то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье,-
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие твое!
* * *
Вера ЗвягинцеваПропавшим без вести
Считали вас никчемными, пропащими,
Но вы - то и остались настоящими.
Стучитесь в души вы тревожно,
И жить без вас нам стало невозможно.
Труба трубит, рыдает окарина...
Бездомная мятежница Марина,
Когда б в своей затерянной могиле
Ты знала, как тебя мы полюбили!
А ты, шаман, великий маг созвучий,
Оставивший нам Камень бел - горючий,
Не ты ли под окошком в ночь холодную
Поешь себе же самому отходную...
А тот, кого из дома выносили
Под ропот музыки в июньской сини,
С откинутой седою головою...
Его могила поросла травою,
Но слышно бормотанье дни за днями -
То горький голос преданного нами.
Под соснами трава теснится густо.
Как скучно без него, как пусто!
...Простите нас, еще живых, счастливых,
Стерней торчащих на пустынных нивах.
Погибшие,как без вести пропавшие,
Простите эти слезы опоздавшие!
* * *
Леонид Губанов
А если лошадь, то подковы...
А если лошадь, то подковы,
что брызжут сырью и сиренью,
что рубят тишину под корень
непоправимо и серебряно.
Как будто Царское Село,
как будто снег промотан мартом,
ещё лицо не рассвело,
но пахнет музыкой и матом.
Целуюсь с проходным двором,
справляю именины вора,
сшибаю мысли, как ворон
у губ с багрового забора.
Мой день страданьем убелен
и под чужую грусть разделан,
я умилен, как Гумилев
за три минуты до расстрела.
О, как напрасно я прождал
пасхальный почерк телеграммы,
мой мозг струится, как Кронштадт,
а крови мало, слышишь, мама?
Откуда начинает грусть?
Орут стихи с какого бока,
когда вовсю пылает Русь
и Бог гостит в усадьбе Блока?
Когда с дороги, перед вишнями
ушедших лет, ослепших лет,
совсем сгорают передвижники,
и есть они, как будто нет!
Не попрошайка я, не нищенка,
прибитая злосчастной верой,
а Петербург, в котором сыщики
и под подушкой револьверы.
Мой первый выстрел не угадан,
и смерть напрасно ждет свиданья,
я заколдован, я укатан
санями золотой Цветаевой.
Марина! ты меня морила,
но я остался жив и цел,
а где твой белый офицер
с морошкой молодой молитвы?
Марина! Слышишь звёзды спят,
и не поцеловать досадно,
и марту храп до самых пят,
и ты как храм, до слез до самых.
Марина! ты опять не роздана,
ах, у эпох, как растерях, -
поэзия - всегда Морозова
до плахи и монастыря!
Ее преследует собака,
ее в тюрьме гноит тоска,
горит как протопоп Аввакум,
бурли-бурлючая Москва.
А рядом, под шарманку шамкая,
как будто бы из-за кулис
снимают колокольни шапки,
приветствуя социализм!..
НАПИСАНО В ПЕТЕРБУРГЕ
А если лошадь, то подковы,
что брюзжат сырью и сиренью,
что рубят тишину под корень
неисправимо и серебряно.
Как будто Царское Село,
как будто снег промотан мартом,
еще лицо не рассвело,
но пахнет музыкой и матом.
Целуюсь с проходным двором,
справляю именины вора,
сшибаю мысли, как ворон,
у губ багрового забора.
Мой день страданьем убелён
и под чужую грусть разделан.
Я умилён, как Гумилёв,
за три минуты до расстрела.
О, как напрасно я прождал
пасхальный почерк телеграммы.
Мой мозг струится, как Кронштадт,
а крови мало… слышишь, мама?
Откуда начинает грусть,
орут стрелки с какого бока,
когда вовсю пылает Русь,
и Бог гостит в усадьбе Блока?
Когда с дороги перед вишнями
Ушедших лет, ослепших лет
совсем сгорают передвижники
и есть они, как будто нет!
Не попрошайка я, не нищенка,
прибитая злосчастной верой,
а Петербург, в котором сыщики
и под подушкой револьверы.
Мой первый выстрел не угадан,
и смерть напрасно ждет свиданья.
Я заколдован, я укатан
санями золотой Цветаевой.
Марина! Ты меня морила,
но я остался жив и цел.
И где твой белый офицер
с морошкой молодой молитвы?
Марина! Слышишь, звёзды спят,
и не поцеловать досадно,
и марту храп до самых пят,
и ты, как храм, до слёз до самых.
Марина! Ты опять не роздана.
Ах, у эпох, как растерях,
поэзия — всегда Морозова
до плахи и монастыря!
Ее преследуют собаки,
ее в тюрьме гноит тоска.
Гори, как протопоп Аввакум,
бурли — бурлючая Москва.
А рядом, тихим звоном шаркая,
как будто бы из-за кулис,
снимают колокольни шапки,
приветствуя социализм.
что брызжут сырью и сиренью,
что рубят тишину под корень
непоправимо и серебряно.
Как будто Царское Село,
как будто снег промотан мартом,
ещё лицо не рассвело,
но пахнет музыкой и матом.
Целуюсь с проходным двором,
справляю именины вора,
сшибаю мысли, как ворон
у губ с багрового забора.
Мой день страданьем убелен
и под чужую грусть разделан,
я умилен, как Гумилев
за три минуты до расстрела.
О, как напрасно я прождал
пасхальный почерк телеграммы,
мой мозг струится, как Кронштадт,
а крови мало, слышишь, мама?
Откуда начинает грусть?
Орут стихи с какого бока,
когда вовсю пылает Русь
и Бог гостит в усадьбе Блока?
Когда с дороги, перед вишнями
ушедших лет, ослепших лет,
совсем сгорают передвижники,
и есть они, как будто нет!
Не попрошайка я, не нищенка,
прибитая злосчастной верой,
а Петербург, в котором сыщики
и под подушкой револьверы.
Мой первый выстрел не угадан,
и смерть напрасно ждет свиданья,
я заколдован, я укатан
санями золотой Цветаевой.
Марина! ты меня морила,
но я остался жив и цел,
а где твой белый офицер
с морошкой молодой молитвы?
Марина! Слышишь звёзды спят,
и не поцеловать досадно,
и марту храп до самых пят,
и ты как храм, до слез до самых.
Марина! ты опять не роздана,
ах, у эпох, как растерях, -
поэзия - всегда Морозова
до плахи и монастыря!
Ее преследует собака,
ее в тюрьме гноит тоска,
горит как протопоп Аввакум,
бурли-бурлючая Москва.
А рядом, под шарманку шамкая,
как будто бы из-за кулис
снимают колокольни шапки,
приветствуя социализм!..
* * *
Леонид ГубановНАПИСАНО В ПЕТЕРБУРГЕ
А если лошадь, то подковы,
что брюзжат сырью и сиренью,
что рубят тишину под корень
неисправимо и серебряно.
Как будто Царское Село,
как будто снег промотан мартом,
еще лицо не рассвело,
но пахнет музыкой и матом.
Целуюсь с проходным двором,
справляю именины вора,
сшибаю мысли, как ворон,
у губ багрового забора.
Мой день страданьем убелён
и под чужую грусть разделан.
Я умилён, как Гумилёв,
за три минуты до расстрела.
О, как напрасно я прождал
пасхальный почерк телеграммы.
Мой мозг струится, как Кронштадт,
а крови мало… слышишь, мама?
Откуда начинает грусть,
орут стрелки с какого бока,
когда вовсю пылает Русь,
и Бог гостит в усадьбе Блока?
Когда с дороги перед вишнями
Ушедших лет, ослепших лет
совсем сгорают передвижники
и есть они, как будто нет!
Не попрошайка я, не нищенка,
прибитая злосчастной верой,
а Петербург, в котором сыщики
и под подушкой револьверы.
Мой первый выстрел не угадан,
и смерть напрасно ждет свиданья.
Я заколдован, я укатан
санями золотой Цветаевой.
Марина! Ты меня морила,
но я остался жив и цел.
И где твой белый офицер
с морошкой молодой молитвы?
Марина! Слышишь, звёзды спят,
и не поцеловать досадно,
и марту храп до самых пят,
и ты, как храм, до слёз до самых.
Марина! Ты опять не роздана.
Ах, у эпох, как растерях,
поэзия — всегда Морозова
до плахи и монастыря!
Ее преследуют собаки,
ее в тюрьме гноит тоска.
Гори, как протопоп Аввакум,
бурли — бурлючая Москва.
А рядом, тихим звоном шаркая,
как будто бы из-за кулис,
снимают колокольни шапки,
приветствуя социализм.
* * *
Александр Кушнер
Мы жили не в худшее время...
Мы жили не в худшее время, так нам повезло.
Везение — странное слово, как если бы зло
В нём было да выпало, призвук остался один.
Ни войн, ни арестов, и ты сам себе господин.
Сидишь на террасе, на синее море глядишь.
Вегетарианская, викторианская тишь.
В России не много таких насчитаешь эпох
Прохладно-отрадных, и чудится в этом подвох.
И кажется, что-то вот-вот возмутит эту гладь.
Не выпить ли нам за военные астры опять?
В виду неизвестно каких предстоящих обид.
Нам Блок удивится, и нам Мандельштам не простит.
Второй бы ушанку, а первый с себя свитерок
Стянул через голову — лишь бы морской ветерок
Ласкал его, гладил на фоне притихшей страны.
Вот только всё реже стихи почему-то нужны.
Везение — странное слово, как если бы зло
В нём было да выпало, призвук остался один.
Ни войн, ни арестов, и ты сам себе господин.
Сидишь на террасе, на синее море глядишь.
Вегетарианская, викторианская тишь.
В России не много таких насчитаешь эпох
Прохладно-отрадных, и чудится в этом подвох.
И кажется, что-то вот-вот возмутит эту гладь.
Не выпить ли нам за военные астры опять?
В виду неизвестно каких предстоящих обид.
Нам Блок удивится, и нам Мандельштам не простит.
Второй бы ушанку, а первый с себя свитерок
Стянул через голову — лишь бы морской ветерок
Ласкал его, гладил на фоне притихшей страны.
Вот только всё реже стихи почему-то нужны.
* * *
Глеб Горбовский
Стояла в стране сволочная погода...
Стояла в стране сволочная погода,
в глазах у прохожих насмешка лучилась...
А я — хоть и «сын трудового народа» —
читал Пастернака... И что получилось?
Теперь я читаю на сон детективы
и сплю нераздетым в холодной кровати...
Какие в стране зазвучали мотивы,
какие порывы! А что — в результате?!
Я некогда был приглашён на беседу
к Ахматовой — Бродским! Сидели, как боги!
И каждый тогда — улыбался соседу,
хотя и сквозь слёзы... И что же — в итоге?!
Теперь мы читаем на ценниках цены!
Стихи полетели, как птицы на свалку...
Поэзия как бы — уходит со сцены,
а с нею и звёзды тускнеют... А жалко...
Александр Еременко
Я пил с Мандельштамом на Курской дуге.
Снаряды взрывались и мины.
Он кружку железную жал в кулаке
и плакал цветами Марины.
И к нам Пастернак по окопу скользя,
сказал, подползая на брюхе:
"О, кто тебя, поле, усеял тебя
седыми майорами в брюках?"
..Блиндаж освещался трофейной свечой,
и мы обнялися спросонок.
Пространство качалось и пахло мочой -
не знавшее люльки ребенок.
Стояла в стране сволочная погода,
в глазах у прохожих насмешка лучилась...
А я — хоть и «сын трудового народа» —
читал Пастернака... И что получилось?
Теперь я читаю на сон детективы
и сплю нераздетым в холодной кровати...
Какие в стране зазвучали мотивы,
какие порывы! А что — в результате?!
Я некогда был приглашён на беседу
к Ахматовой — Бродским! Сидели, как боги!
И каждый тогда — улыбался соседу,
хотя и сквозь слёзы... И что же — в итоге?!
Теперь мы читаем на ценниках цены!
Стихи полетели, как птицы на свалку...
Поэзия как бы — уходит со сцены,
а с нею и звёзды тускнеют... А жалко...
* * *
Я пил с Мандельштамом на Курской дуге...Александр Еременко
Я пил с Мандельштамом на Курской дуге.
Снаряды взрывались и мины.
Он кружку железную жал в кулаке
и плакал цветами Марины.
И к нам Пастернак по окопу скользя,
сказал, подползая на брюхе:
"О, кто тебя, поле, усеял тебя
седыми майорами в брюках?"
..Блиндаж освещался трофейной свечой,
и мы обнялися спросонок.
Пространство качалось и пахло мочой -
не знавшее люльки ребенок.
* * *
Елена БлагининаНесовершенный сонет
Отбросив ахи всякие и охи,
Слова-ходули и слова-весы,
Я провела немалые часы
Наедине с поэтами эпохи.
Там были лжепророки и пройдохи,
И мытари газетной полосы,
И рифмачи... А рядом — полубоги —
Владетели величья и красы.
Чисты их имена,
И горек голос лир,
И дух высок, и слово осиянно...
На вечны времена:
Владимир, Велимир,
Марина, и Борис, и Александр, и Анна.
* * *
Ирина Ратушинская
Мандельштамовской ласточкой
Мандельштамовской ласточкой
Падает к сердцу разлука,
Пастернак посылает дожди,
А Цветаева — ветер.
Чтоб вершилось вращенье вселенной
Без ложного звука,
Нужно слово — и только поэты
За это в ответе.
И раскаты весны пролетают
По тютчевским водам,
И сбывается классика осени
Снова и снова.
Но ничей еще голос
Крылом не достал до свободы,
Не исполнил свободу,
Хоть это и русское слово.
Падает к сердцу разлука,
Пастернак посылает дожди,
А Цветаева — ветер.
Чтоб вершилось вращенье вселенной
Без ложного звука,
Нужно слово — и только поэты
За это в ответе.
И раскаты весны пролетают
По тютчевским водам,
И сбывается классика осени
Снова и снова.
Но ничей еще голос
Крылом не достал до свободы,
Не исполнил свободу,
Хоть это и русское слово.
* * *
Александр КушнерО “Бродячей собаке” читать не хочу
О “Бродячей собаке” читать не хочу.
Артистических я не люблю кабаков.
Ну, Кузмин потрепал бы меня по плечу,
Мандельштам бы мне пару сказал пустяков.
Я люблю их, но в книгах, а в жизни смотреть
Не хочу, как поэты едят или пьют.
Нет уж, камень так камень и скользкая сеть,
А не амбициозный и дымный уют.
И по сути своей человек одинок,
А тем более если он пишет стихи.
Как мне нравится, что не ходил сюда Блок,
Ненаходчив, стыдясь стиховой шелухи.
Не зайдем. Объясню, почему не зайдем.
И уже над платформами, даль замутив,
“Петроградское небо мутилось дождем”.
Вот, наверное, самый печальный мотив.
Артистических я не люблю кабаков.
Ну, Кузмин потрепал бы меня по плечу,
Мандельштам бы мне пару сказал пустяков.
Я люблю их, но в книгах, а в жизни смотреть
Не хочу, как поэты едят или пьют.
Нет уж, камень так камень и скользкая сеть,
А не амбициозный и дымный уют.
И по сути своей человек одинок,
А тем более если он пишет стихи.
Как мне нравится, что не ходил сюда Блок,
Ненаходчив, стыдясь стиховой шелухи.
Не зайдем. Объясню, почему не зайдем.
И уже над платформами, даль замутив,
“Петроградское небо мутилось дождем”.
Вот, наверное, самый печальный мотив.
* * *
Александр Кушнер
О. Чухонцеву
Мне приснилось, что все мы сидим за столом,
В полублеск облачась, в полумрак,
И накрыт он в саду, и бутыли с вином,
И цветы, и прохлада в обнимку с теплом,
И читает стихи Пастернак.
С выраженьем, по-детски, старательней, чем
Это принято, чуть захмелев,
И смеемся, и так это нравится всем,
Только Лермонтов: “Чур, — говорит, — без поэм!
Без поэм и вступления в Леф!”
А туда, где сидит Председатель, взглянуть...
Но, свалившись на стол с лепестка,
Жук пускается в долгий по скатерти путь...
Кто-то встал, кто-то голову клонит на грудь,
Кто-то бедного ловит жука.
И так хочется мне посмотреть хоть разок
На того, кто... Но тень всякий раз
Заслоняет его или чей-то висок,
И последняя ласточка наискосок
Пронеслась, чуть не врезавшись в нас.
О. Чухонцеву
Мне приснилось, что все мы сидим за столом,
В полублеск облачась, в полумрак,
И накрыт он в саду, и бутыли с вином,
И цветы, и прохлада в обнимку с теплом,
И читает стихи Пастернак.
С выраженьем, по-детски, старательней, чем
Это принято, чуть захмелев,
И смеемся, и так это нравится всем,
Только Лермонтов: “Чур, — говорит, — без поэм!
Без поэм и вступления в Леф!”
А туда, где сидит Председатель, взглянуть...
Но, свалившись на стол с лепестка,
Жук пускается в долгий по скатерти путь...
Кто-то встал, кто-то голову клонит на грудь,
Кто-то бедного ловит жука.
И так хочется мне посмотреть хоть разок
На того, кто... Но тень всякий раз
Заслоняет его или чей-то висок,
И последняя ласточка наискосок
Пронеслась, чуть не врезавшись в нас.
* * *
Александр Кушнер
В Петербурге мы сойдёмся снова
В Петербурге мы сойдёмся снова,
Мандельштама пригласим.
Пусть сидит он, смотрит бестолково,
Где он, что он, что плохого с ним?
Всё в порядке. Ничего плохого.
Только слава и табачный дым.
Ни полёт с прыжком и пируэтом
Не отдав, ни арию — на слом,
Мы театру оперы с балетом
Предпочли беседу за столом
В измеренье этом,
А не в пышном, ложно-золотом.
Для такого редкостного гостя
На столе вина у нас букет:
Пыльный папский замок, как в коросте,
(Ничего хорошего в нём нет),
Мозельвейн, — в чём дело? Дело в тосте:
Сколько зим и сколько страшных лет!
Никакого пролетариата
С обращеньем к взрослому на ты.
Как же мучил честно, виновато
Он себя, до полной слепоты,
Подставляя лоб покатый
Под лучи всемирной пустоты.
Видит Бог, нет музыки над нами,
Той, что Ницше вытащил на свет.
Мы сейчас её добудем сами,
Жаркий повод, рифму и сюжет.
Потому и кружатся созвездья,
Что, поверх идейных пустяков,
Не столетье, а тысячелетье —
Мера для прозрений и стихов.
Час и два готов смотреть я,
Как он курит, к жизни не готов.
Вечной жизни. Что ж, пошире шторы
Для него раздвину на окне.
Что там? Башня, где ночные споры
При Иванове и Кузмине
В хороводы превращались, в хоры,
Мы без хоров справимся вполне.
Лишь бы сад Таврический зелёный,
Как волна морская, шелестел
И мотор нестрашный, полусонный,
На стихи полночные летел.
Я не знаю, чем закончить эти
Строфы. Нет в запасе у меня
Вывода. Зато стихи на сети
Не похожи, ночь — не западня,
И гуляет ветер
В плотных шторах, кольцами звеня.
На фоне притихшей страны
Мы жили не в худшее время, так нам повезло.
Везение — странное слово, как если бы зло
В нём было да выпало, призвук остался один.
Ни войн, ни арестов, и ты сам себе господин.
Сидишь на террасе, на синее море глядишь.
Вегетарианская, викторианская тишь.
В России не много таких насчитаешь эпох
Прохладно-отрадных, и чудится в этом подвох.
И кажется, что-то вот-вот возмутит эту гладь.
Не выпить ли нам за военные астры опять?
В виду неизвестно каких предстоящих обид.
Нам Блок удивится, и нам Мандельштам не простит.
Второй бы ушанку, а первый с себя свитерок
Стянул через голову — лишь бы морской ветерок
Ласкал его, гладил на фоне притихшей страны.
Вот только всё реже стихи почему-то нужны.
Что делать нам...
Мандельштама пригласим.
Пусть сидит он, смотрит бестолково,
Где он, что он, что плохого с ним?
Всё в порядке. Ничего плохого.
Только слава и табачный дым.
Ни полёт с прыжком и пируэтом
Не отдав, ни арию — на слом,
Мы театру оперы с балетом
Предпочли беседу за столом
В измеренье этом,
А не в пышном, ложно-золотом.
Для такого редкостного гостя
На столе вина у нас букет:
Пыльный папский замок, как в коросте,
(Ничего хорошего в нём нет),
Мозельвейн, — в чём дело? Дело в тосте:
Сколько зим и сколько страшных лет!
Никакого пролетариата
С обращеньем к взрослому на ты.
Как же мучил честно, виновато
Он себя, до полной слепоты,
Подставляя лоб покатый
Под лучи всемирной пустоты.
Видит Бог, нет музыки над нами,
Той, что Ницше вытащил на свет.
Мы сейчас её добудем сами,
Жаркий повод, рифму и сюжет.
Потому и кружатся созвездья,
Что, поверх идейных пустяков,
Не столетье, а тысячелетье —
Мера для прозрений и стихов.
Час и два готов смотреть я,
Как он курит, к жизни не готов.
Вечной жизни. Что ж, пошире шторы
Для него раздвину на окне.
Что там? Башня, где ночные споры
При Иванове и Кузмине
В хороводы превращались, в хоры,
Мы без хоров справимся вполне.
Лишь бы сад Таврический зелёный,
Как волна морская, шелестел
И мотор нестрашный, полусонный,
На стихи полночные летел.
Я не знаю, чем закончить эти
Строфы. Нет в запасе у меня
Вывода. Зато стихи на сети
Не похожи, ночь — не западня,
И гуляет ветер
В плотных шторах, кольцами звеня.
* * *
Александр КушнерНа фоне притихшей страны
Мы жили не в худшее время, так нам повезло.
Везение — странное слово, как если бы зло
В нём было да выпало, призвук остался один.
Ни войн, ни арестов, и ты сам себе господин.
Сидишь на террасе, на синее море глядишь.
Вегетарианская, викторианская тишь.
В России не много таких насчитаешь эпох
Прохладно-отрадных, и чудится в этом подвох.
И кажется, что-то вот-вот возмутит эту гладь.
Не выпить ли нам за военные астры опять?
В виду неизвестно каких предстоящих обид.
Нам Блок удивится, и нам Мандельштам не простит.
Второй бы ушанку, а первый с себя свитерок
Стянул через голову — лишь бы морской ветерок
Ласкал его, гладил на фоне притихшей страны.
Вот только всё реже стихи почему-то нужны.
* * *
БАХЫТ КЕНЖЕЕВЧто делать нам...
Что делать нам (как вслед за Гумилевым
чуть слышно повторяет Мандельштам)
с вечерним светом, алым и лиловым,
Как ветер, шелестящий по кустам
орешника, рождает грешный трепет,
треск шелковый, и влажный шорох там,
где сердце ослепительное лепит
свой перелетный труд, свой трудный иск,
- так горек нам неумолимый щебет
птиц утренних, и солнца близкий диск-
что делать нам с базальтом под ногами
(ночной огонь пронзителен и льдист),
что нам делить с растерянными нами,
когда рассвет печален и высок?
Что я молчу? О чем я вспоминаю?
И камень превращается в песок.
* * *
Александр КушнерТень
В Таврическом саду моя пребудет тень.
Я чаще здесь гулял, чем кто-нибудь из прочих
Поэтов. Блок бывал здесь, но не каждый день:
Раз пять, быть может шесть; Ахматова не очень
Любила этот сад, поскольку Гумилев
С хозяином, увы, не ладил с круглой башни;
Претендовать Кузмин на это место б мог,
Но он предпочитал другой, в котором шашни
Игривые в своей "Форели" описал:
В Таврическом саду огреть за это палкой
Могли, а то и вслух сказать: "Какой нахал!",
Петлица пострадать могла с ночной фиалкой.
Вот Анненскому я чугунную скамью
Поставил бы в саду, а сам убрался б к черту,
Да в Павловске ему привычней к забытью
Клониться и внимать рояльному аккорду.
Сад сумрачен, ему разбросанность к лицу,
Не вытянут в струну, не чахлый он, не узкий,
Мне нравится, что он разбит по образцу
Английскому, а не расчерчен по-французски,
Что светел он, тенист, неровен, кое-где
Взбирается на холм, спускается в низину,
Что уточек скользит армада по воде,
Безмолвен старый дуб и гол наполовину.
Итак, придется мне свою оставить тень
В Таврическом саду, а памятник в сравненье
С ней - пошлость, ерунда, бесстыдство, дребедень:
Сирень не приведет весной его в волненье.
* * *
Георгий Шенгели
Он знал их всех
Он знал их всех и видел всех почти:
Валерия, Андрея, Константина,
Максимильяна, Осипа, Бориса,
Ивана, Игоря, Сергея, Анну,
Владимира, Марину, Вячеслава
И Александра – небывалый хор,
Четырнадцатизвездное созвездье!1
Что за чудесный фейерверк имен!
Какую им победу отмечала
История? Не торжество ль Петра?
Не Третьего ли Рима становленье?
Не пир ли брачный Запада и русской
Огромной, всеобъемлющей души?
Он знал их всех. Он говорил о них
Своим ученикам неблагодарным,
А те, ему почтительно внимая,
Прикидывали: есть ли нынче спрос
На звездный блеск? И не вернее ль тусклость
Акафистов и гимнов заказных?
И он умолк. Оставил для себя
Воспоминанье о созвездьи чудном,
Вовек неповторимом… Был он стар
И грустен, как последний залп салюта.
8.XI.1955
1 Имеются в виду: Валерий Брюсов, Андрей Белый, Константин Бальмонт, Максимилиан Волошин, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Иван Бунин, Игорь Северянин, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Вячеслав Иванов, Александр Блок.
Русские поэты
Не пуля, так сплетня
их в гроб уложила.
Не с песней, а с петлей
их горло дружило.
И пули свистели,
как в дыры кларнетов,
в пробитые головы
лучших поэтов.
Им свищут метели.
Их пленумы судят.
Но есть Прометеи.
И пленных не будет.
Несется в поверья
верстак под Москвой.
А я подмастерье
в Его мастерской.
Свищу как попало,
и так, и сяк.
Лиха беда начало.
Велик верстак.
Он знал их всех и видел всех почти:
Валерия, Андрея, Константина,
Максимильяна, Осипа, Бориса,
Ивана, Игоря, Сергея, Анну,
Владимира, Марину, Вячеслава
И Александра – небывалый хор,
Четырнадцатизвездное созвездье!1
Что за чудесный фейерверк имен!
Какую им победу отмечала
История? Не торжество ль Петра?
Не Третьего ли Рима становленье?
Не пир ли брачный Запада и русской
Огромной, всеобъемлющей души?
Он знал их всех. Он говорил о них
Своим ученикам неблагодарным,
А те, ему почтительно внимая,
Прикидывали: есть ли нынче спрос
На звездный блеск? И не вернее ль тусклость
Акафистов и гимнов заказных?
И он умолк. Оставил для себя
Воспоминанье о созвездьи чудном,
Вовек неповторимом… Был он стар
И грустен, как последний залп салюта.
8.XI.1955
1 Имеются в виду: Валерий Брюсов, Андрей Белый, Константин Бальмонт, Максимилиан Волошин, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Иван Бунин, Игорь Северянин, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Вячеслав Иванов, Александр Блок.
* * *
Андрей ВознесенскийРусские поэты
Не пуля, так сплетня
их в гроб уложила.
Не с песней, а с петлей
их горло дружило.
И пули свистели,
как в дыры кларнетов,
в пробитые головы
лучших поэтов.
Им свищут метели.
Их пленумы судят.
Но есть Прометеи.
И пленных не будет.
Несется в поверья
верстак под Москвой.
А я подмастерье
в Его мастерской.
Свищу как попало,
и так, и сяк.
Лиха беда начало.
Велик верстак.
* * *
Борис Рыжий
СТИХИ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Иванов тютчевские строки
раскрасил ярко и красиво.
Мы так с тобою одиноки —
но, слава богу, мы в России.
Он жил и умирал в Париже.
Но, Родину не покидая,
и мы с тобой умрём не ближе —
как это грустно, дорогая.
СТИХИ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Иванов тютчевские строки
раскрасил ярко и красиво.
Мы так с тобою одиноки —
но, слава богу, мы в России.
Он жил и умирал в Париже.
Но, Родину не покидая,
и мы с тобой умрём не ближе —
как это грустно, дорогая.
* * *
Сергей Есенин
О Русь, взмахни крылами...
О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встаёт иная степь.
По голубой долине,
Меж тёлок и коров,
Идёт в златой ряднине
Твой Алексей Кольцов.
В руках - краюха хлеба,
Уста - вишнёвый сок.
И вызвездило небо
Пастушеский рожок.
За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идёт, одетый светом,
Его середний брат.
От Вытегры до Шуи
Он избродил весь край
И выбрал кличку - Клюев,
Смиренный Миколай.
Монашьи мудр и ласков,
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит пасха
С бескудрой головы.
А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и весёлый,
Такой разбойный я.
Долга, крута дорога,
Несчётны склоны гор;
Но даже с тайной бога
Веду я тайно спор.
Сшибаю камнем месяц
И на немую дрожь
Бросаю, в небо свесясь,
Из голенища нож.
За мной незримым роем
Идёт кольцо других,
И далеко по сёлам
Звенит их бойкий стих.
Из трав мы вяжем книги,
Слова трясём с двух пол.
И сродник наш, Чапыгин,
Певуч, как снег и дол.
Сокройся, сгинь ты, племя
Смердящих снов и дум!
На каменное темя
Несём мы звёздный шум.
Довольно гнить и ноять,
И славить взлётом гнусь -
Уж смыла, стёрла дёготь
Воспрянувшая Русь.
Уж повела крылами
Её немая крепь!
С иными именами
Встаёт иная степь.
1917
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встаёт иная степь.
По голубой долине,
Меж тёлок и коров,
Идёт в златой ряднине
Твой Алексей Кольцов.
В руках - краюха хлеба,
Уста - вишнёвый сок.
И вызвездило небо
Пастушеский рожок.
За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идёт, одетый светом,
Его середний брат.
От Вытегры до Шуи
Он избродил весь край
И выбрал кличку - Клюев,
Смиренный Миколай.
Монашьи мудр и ласков,
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит пасха
С бескудрой головы.
А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и весёлый,
Такой разбойный я.
Долга, крута дорога,
Несчётны склоны гор;
Но даже с тайной бога
Веду я тайно спор.
Сшибаю камнем месяц
И на немую дрожь
Бросаю, в небо свесясь,
Из голенища нож.
За мной незримым роем
Идёт кольцо других,
И далеко по сёлам
Звенит их бойкий стих.
Из трав мы вяжем книги,
Слова трясём с двух пол.
И сродник наш, Чапыгин,
Певуч, как снег и дол.
Сокройся, сгинь ты, племя
Смердящих снов и дум!
На каменное темя
Несём мы звёздный шум.
Довольно гнить и ноять,
И славить взлётом гнусь -
Уж смыла, стёрла дёготь
Воспрянувшая Русь.
Уж повела крылами
Её немая крепь!
С иными именами
Встаёт иная степь.
1917
* * *
Константин Липскеров
Из стихов мы не выстроим дома
Из стихов мы не выстроим дома,
Не добудет жилища сонет,
Нам обычное незнакомо,
И дохода спокойного нет.
Истрепавши подошвы, в руки
Взявши палки, мы ищем вновь
Все дороги и все разлуки,
Все созвездья и всю любовь.
И читателям нужной прозы
Мы должны быть ненужней снов,
Глуше ветра, напрасней розы,
Бесполезнее облаков.
Надежда Павлович
Поэты собирались в клуб
Не добудет жилища сонет,
Нам обычное незнакомо,
И дохода спокойного нет.
Истрепавши подошвы, в руки
Взявши палки, мы ищем вновь
Все дороги и все разлуки,
Все созвездья и всю любовь.
И читателям нужной прозы
Мы должны быть ненужней снов,
Глуше ветра, напрасней розы,
Бесполезнее облаков.
* * *
Поэты собирались в клуб
Поэты собирались в клуб,
Как будто в гости к музе,
К печному милому теплу:
Литейный. Дом Мурузи,
В ту зиму здесь хозяин Блок,
Рачительный хозяин:
Достать товарищам паек,
Дать вечер для окраин.
— Нас горсть. Их тьмы. Они придут
И станут рядом с нами,
Неведомые, нам зажгут
Неведомое пламя.
Что знаем мы? Что нам принес
Эпохи голос чудный?
Молчат поэты. Лишь мороз
На улице безлюдной.
В ответ «Куранты» пел Кузмин,
Пришептывая нежно...
Александрия среди льдин,
Средь нашей ночи снежной!
И, отутюжен, вымыт, брит,
Слонялся Адамович:
Изящный стих, как смокинг, сшит,
Остроты наготове.
Поклон надменный Гумилева...
Осанка. Мелкие черты...
И осуждающее слово
С высокомерной высоты.
Порой застенчивостью тайной
Сменялся этот важный тон,
И мягкостью необычайной
Был собеседник изумлен.
Но с Блоком вместе, с Блоком рядом
Для Гумилева нет путей:
Прищуренным следил он взглядом
Боренье родины своей.
И страшно было увидать
В холодном гневе Блока, —
Умел он в споре промолчать
Презрительно-жестоко...
— А Блок совсем сошел с ума,
Зовет читать в районы!
— Должна поэзия сама
Создать себе законы!
…………………………………
— Прочтем стихи! — По одному
Прочли стихотворенью.
Москвы я помню кутерьму
И братское волненье...
А здесь ни споров, ни похвал,
Глухое состязанье:
Здесь Гумилеву Блок внимал
В безмолвном отрицанье.
И молча Блока слушал «Цех»,
Так чуждо, так прилично.
Был Гумилев надменней всех
В учтивости столичной.
Как два клинка, как два меча,
Стихи скрестились к бою.
Два мира бьются и молчат,
Два мира пред тобою...
— «Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг».
Как будто в гости к музе,
К печному милому теплу:
Литейный. Дом Мурузи,
В ту зиму здесь хозяин Блок,
Рачительный хозяин:
Достать товарищам паек,
Дать вечер для окраин.
— Нас горсть. Их тьмы. Они придут
И станут рядом с нами,
Неведомые, нам зажгут
Неведомое пламя.
Что знаем мы? Что нам принес
Эпохи голос чудный?
Молчат поэты. Лишь мороз
На улице безлюдной.
В ответ «Куранты» пел Кузмин,
Пришептывая нежно...
Александрия среди льдин,
Средь нашей ночи снежной!
И, отутюжен, вымыт, брит,
Слонялся Адамович:
Изящный стих, как смокинг, сшит,
Остроты наготове.
Поклон надменный Гумилева...
Осанка. Мелкие черты...
И осуждающее слово
С высокомерной высоты.
Порой застенчивостью тайной
Сменялся этот важный тон,
И мягкостью необычайной
Был собеседник изумлен.
Но с Блоком вместе, с Блоком рядом
Для Гумилева нет путей:
Прищуренным следил он взглядом
Боренье родины своей.
И страшно было увидать
В холодном гневе Блока, —
Умел он в споре промолчать
Презрительно-жестоко...
— А Блок совсем сошел с ума,
Зовет читать в районы!
— Должна поэзия сама
Создать себе законы!
…………………………………
— Прочтем стихи! — По одному
Прочли стихотворенью.
Москвы я помню кутерьму
И братское волненье...
А здесь ни споров, ни похвал,
Глухое состязанье:
Здесь Гумилеву Блок внимал
В безмолвном отрицанье.
И молча Блока слушал «Цех»,
Так чуждо, так прилично.
Был Гумилев надменней всех
В учтивости столичной.
Как два клинка, как два меча,
Стихи скрестились к бою.
Два мира бьются и молчат,
Два мира пред тобою...
— «Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг».
* * *
Надежда Павлович
Клуб поэтов
Поэты собирались в клуб,
Как будто в гости к музе,
К печному милому теплу:
Литейный. Дом Мурузи,
В ту зиму здесь хозяин Блок,
Рачительный хозяин:
Достать товарищам паек,
Дать вечер для окраин.
— Нас горсть. Их тьмы. Они придут
И станут рядом с нами,
Неведомые, нам зажгут
Неведомое пламя.
Что знаем мы? Что нам принес
Эпохи голос чудный?
Молчат поэты. Лишь мороз
На улице безлюдной.
В ответ «Куранты» пел Кузмин,
Пришептывая нежно...
Александрия среди льдин,
Средь нашей ночи снежной!
И, отутюжен, вымыт, брит,
Слонялся Адамович:
Изящный стих, как смокинг, сшит,
Остроты наготове.
Поклон надменный Гумилева...
Осанка. Мелкие черты...
И осуждающее слово
С высокомерной высоты.
Порой застенчивостью тайной
Сменялся этот важный тон,
И мягкостью необычайной
Был собеседник изумлен.
Но с Блоком вместе, с Блоком рядом
Для Гумилева нет путей:
Прищуренным следил он взглядом
Боренье родины своей.
И страшно было увидать
В холодном гневе Блока, —
Умел он в споре промолчать
Презрительно-жестоко...
— А Блок совсем сошел с ума,
Зовет читать в районы!
— Должна поэзия сама
Создать себе законы!
…………………………………
— Прочтем стихи! — По одному
Прочли стихотворенью.
Москвы я помню кутерьму
И братское волненье...
А здесь ни споров, ни похвал,
Глухое состязанье:
Здесь Гумилеву Блок внимал
В безмолвном отрицанье.
И молча Блока слушал «Цех»,
Так чуждо, так прилично.
Был Гумилев надменней всех
В учтивости столичной.
Как два клинка, как два меча,
Стихи скрестились к бою.
Два мира бьются и молчат,
Два мира пред тобою...
— «Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг».
Поэты собирались в клуб,
Как будто в гости к музе,
К печному милому теплу:
Литейный. Дом Мурузи,
В ту зиму здесь хозяин Блок,
Рачительный хозяин:
Достать товарищам паек,
Дать вечер для окраин.
— Нас горсть. Их тьмы. Они придут
И станут рядом с нами,
Неведомые, нам зажгут
Неведомое пламя.
Что знаем мы? Что нам принес
Эпохи голос чудный?
Молчат поэты. Лишь мороз
На улице безлюдной.
В ответ «Куранты» пел Кузмин,
Пришептывая нежно...
Александрия среди льдин,
Средь нашей ночи снежной!
И, отутюжен, вымыт, брит,
Слонялся Адамович:
Изящный стих, как смокинг, сшит,
Остроты наготове.
Поклон надменный Гумилева...
Осанка. Мелкие черты...
И осуждающее слово
С высокомерной высоты.
Порой застенчивостью тайной
Сменялся этот важный тон,
И мягкостью необычайной
Был собеседник изумлен.
Но с Блоком вместе, с Блоком рядом
Для Гумилева нет путей:
Прищуренным следил он взглядом
Боренье родины своей.
И страшно было увидать
В холодном гневе Блока, —
Умел он в споре промолчать
Презрительно-жестоко...
— А Блок совсем сошел с ума,
Зовет читать в районы!
— Должна поэзия сама
Создать себе законы!
…………………………………
— Прочтем стихи! — По одному
Прочли стихотворенью.
Москвы я помню кутерьму
И братское волненье...
А здесь ни споров, ни похвал,
Глухое состязанье:
Здесь Гумилеву Блок внимал
В безмолвном отрицанье.
И молча Блока слушал «Цех»,
Так чуждо, так прилично.
Был Гумилев надменней всех
В учтивости столичной.
Как два клинка, как два меча,
Стихи скрестились к бою.
Два мира бьются и молчат,
Два мира пред тобою...
— «Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг».

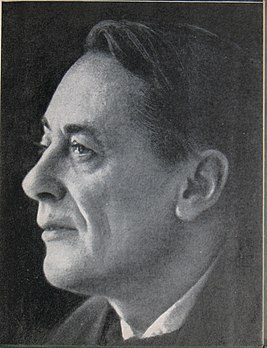










Лучшие казино разумеют, собственно современные игроки часто пользуются телефонными, планшетами для пуска эмуляторов. Для удовлетворения потребностей пользователей поддерживается мобильная версия. Сайт раскрывается с браузера смартфона на ОС Андроид, iOS. Мгновенно подстраивается под размер экрана девайса, позволяя запускать слоты с максимальным удобством. Некоторые порталы предлагают ввести специальное приложение. ПО поможет получить дополнительный приз, обеспечит бесперебойный доступ к игротеке казино новые. Чаще всего программка копирует официальный сайт. Пользователь тратит минимум времени на исследование нового перечня, возможность выступать бесплатно либо создавать настоящие ставки.
ОтветитьУдалитьГеоргий долматов понравился!
ОтветитьУдалить